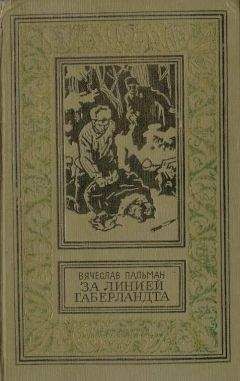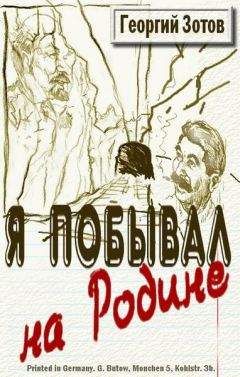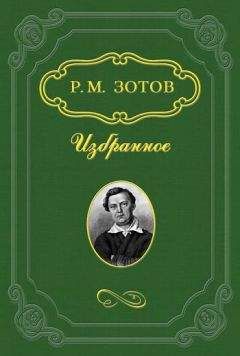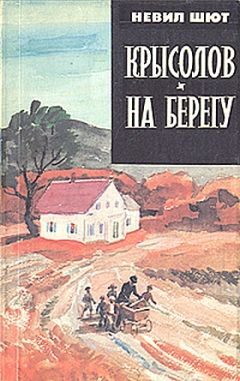Виктор Дудко - Тревожное лето
Кровавым полымем горел закат, такие закаты говорят к ветру и холодам, а Матрене казалось, что это море бедняцкой крови, которое пролил бандитский главарь Семен Лялин.
— Значит, это твое последнее слово?
— Нету у меня слов к тебе, ни первых, ни последних, — устало произнесла Матрена. — Можешь убить меня, зарезать али на костре изничтожить. Вот знаю, какой ты зверь, а прихожу к тебе, не боюся.
— Это потому, что ты знаешь, не трону тебя. — Он тяжело задышал: — Легкой смерти захотела? Не будет тебе легкой смерти. Живи хоть сто лет. Живи. Но всю жизнь, Матрена, будешь помнить меня. Подыматься будешь утром, вспомнишь, спать будешь ложиться, вспомнишь. Во сне будешь видеть меня. Не дам я тебе покою, Матрена. Может и права ты: привязался я к тебе потому, что для меня ты последний осколок старого и нету моготы с ним расстаться. Может, и правда, не знаю. Я не умею копаться в себе. Это коммунисты умеют, а мы не умеем.
Он легко вскочил в седло, и конь загарцевал под ним. В последний момент Лялин нагнулся, произнес с угрозой:
— Обреку я тебя на адовы муки, Матрена.
В этот вечер, когда все собрались, Матрена долго ласкала Фильку, гладила его выгоревшие на солнце вихры, целовала иссушенными губами.
— Ты что, мам? — спрашивал Филька обеспокоенно, а в горле Матрены застрял горячий комок и мешал дышать. Шесть с небольшим годков Фильке, а много ли она уделяла ему внимания и так ли любила его, как если был бы он от законного и желанного мужа?
Захару Матрена говорила:
— Ты бы поосторожней носился. Мотаешься, хоть бы ружье с собой брал. Не ровен час...
Соломаха угрюмо поинтересовался:
— Чего это ты, мать, пугаешь меня?
Матрена вздохнула.
— Тебя не напугай, так не подумаешь уберечься. Филька вон круглый день без присмотра. Один. Боюсь я, Захар. Ой как боюсь чегой-то. И сон видала, будто мама моя покойница взяла за руки тебя и Фильку и повела куда-то. Я кричу, а вы вдруг оторвались от земли и полетели. Боюсь я...
Захар прижал к себе Матрену, погладил по острому плечу, по худым лопаткам.
— Будет тебе, мать. Ничего с нами не случится.
Кешке Шершавов сказал:
— Ты вот что, Кешка. Возьми-ка под свое шефство Фильку соломахинского. Мальчонка еще несмышленый, попадет куда, потом беды не оберешься.
Кешка хмыкнул, перестал строгать.
— В няньки, что ли?
— А може, и в няньки, так что тут худого? Вон как вырезаешь. Вот и его учи.
— А Матрена, а дядька Захар чего будут делать?
Шершавов вздохнул.
— Эх, Кешка, Кешка, тебя самого учить надо. Большой уже, а простой истины понять не можешь. Когда ж Матрене и Захару заниматься с ним, если они с утра до позднего вечера в поле?
— Ладно, чего уж там... — недовольно произнес Кешка. Он был очень обижен на Егора Ивановича. Ленька вон исполняет какие-то секретные задания...
Когда Шершавов объявил о своем решении Захару, тот даже обиделся:
— Эка ты... Он что же, не сын мне? Как-нибудь управлюсь и без твоей помощи. Вас с Матреной не пойми-разберешь. Та тоже все боится.
— А все ж будь осторожен, Захар.
— Да уж постараемся, — самолюбиво ответил Соломаха, поглаживая по льняной головке Фильку. — Он теперя от меня никуда.
Как-то уж очень сразу оборвалось затянувшееся лето, и наступала осень. Уже куда-то реденькими клинышками неслись журавли, и их грустное курлыканье, похожее на отдаленный и обессиленный детский плач, щипало душу. Мост черемшанцы выстроили. Не мост, а загляденье, да и только. Хотелось сделать все как следует, соблюсти народный обряд, да кругом распить чарочку, чтоб стоять этому мосту, сто лет, но отметили окончание строительства каждый в своей семье стаканом-другим самогонки под квашеную с брусникой да со смородиновым листом капусту.
Уже провезли по мосту новый урожай ржи, пшеницы, гречихи. Коммунары ликовали. Красный обоз с хлебом и флагом на передней подводе встречало все село. Тарас Телегин произнес речь, говорил немного, но от души, и все ему искренне хлопали в ладоши.
А под самое утро, когда продирали глотки первые петухи, в стороне Черемшанки, там, где перекинул свой костлявый позвоночник новенький, еще не утративший первозданной желтизны мост, бухнули выстрелы. Село переполошилось. Чоновцы доложили, что стрелял кто-то из лесу и вреда не причинил.
Матрена металась по Черемшанам и всех спрашивала, не видали ли Захара с Филькой? Захара с Филькой видали и утром на конюшне, и потом на ржаном поле, где подбирали осыпавшиеся колоски, а где они теперь, никто не знал.
Матрена бегала из двора во двор и расспрашивала всех. Ее утешали кто как мог: да куда ж твой Захар денется, где-нибудь загулял небось у однополчан-партизан или в сельсовете. Но ни в сельсовете, ни у Шершавова Захара и Фильки не было.
Шершавов обеспокоился не на шутку. Подняли несколько мужиков и парней из ЧОНа, и, вооружившись, выехали верхами в поля.
До полночи мотались в темени, кричали, звали, но никто не откликнулся.
А утром деревню всполошил нечеловеческий крик. У ворот Матрениной избы стояла бричка, в которой лежали мертвые Захар и Филька, а рядом оземь билась Матрена.
Захара Матрена признала только по косоворотке, первый раз надеванной, вышитой по воротнику зеленым крестом.
Филька, как будто спал, прижавшись к Соломахе бочком, и рот у него был открыт. Синие, еще подернутые влагой глаза его были широко распахнуты, в них застыли боль и удивление.
Люди стояли обнажив головы, потрясенные случившимся. Негромко скулила Колобиха.
Тарас шагнул к Матрене. Она обвела собравшихся безумным взглядом, запрокинула голову, смежила распухшие веки. Так стояла она долго, и все подумали, глядя на нее, что Матрена не жилец теперь на белом свете. Но она вдруг затрясла головой так, словно хотела отогнать дурное и страшное виденье, и поползла к бричке на коленях. Цепляясь за покрытые засохшей грязью спицы, с трудом поднялась.
Бережно, как, может, никогда в жизни, словно боясь разбудить, взяла Фильку на руки. Голова его свесилась, и отросшие, не знавшие ножниц светлые и мягкие волосенки обвисли. Матрена поправила голову, села на крыльцо и, едва касаясь жесткой ладонью, принялась нежно гладить и целовать уже опавшее личико. И казалось, что Филька, набегавшись, прикорнул в мамкином подоле. А Матрена баюкала его и что-то напевала ласковое и теплое.
Кешка дергал Шершавова за рукав и все повторял, всхлипывая:
— За что они его... дядь Егор, за что они его...
Шершавов не слышал.
Заимка Хамчука. Август 1927 г.
Лялину доложили, что у Медвежьего перевала блуждающий секрет напоролся на разъезд красноармейцев в количестве четырех человек.
— Вот вам подтверждение, — махнул рукой в сторону предполагаемого перевала Губанов. — Они нащупывают нас. Сужают кольцо.