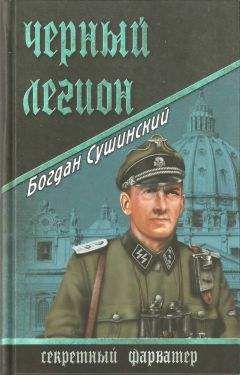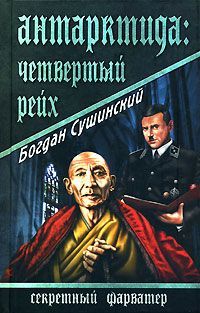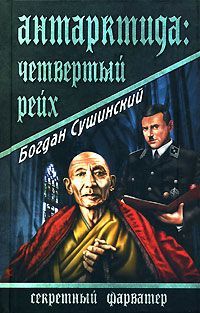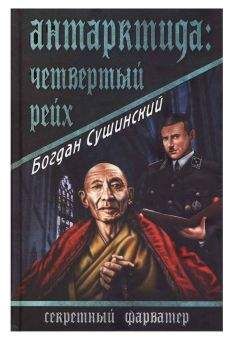Богдан Сушинский - Странники войны
— Речь идет не о тех авантюрах, в которые нас ввергают как диверсантов. Там все оправдано высшими интересами рейха. Но эти двойники... Это тайное подражание фюреру... Еще ведь неизвестно, как начнут истолковывать их появление, а главное, ваше пристрастие к ним в ближайшем окружении Гитлера.
— Ваши страхи уже на чем-то основаны?
— Тогда было бы проще. Мы тотчас же постарались бы ликвидировать их источник. А так нарастает молва. Безликая, всеобщая. Я это предчувствую. Где двойник — там подозрение.
— А где подозрение — там неминуемо появляется двойник. Улавливаете логику бытия?
— Будь я вашим шефом, категорически запретил бы читать философские трактаты и авантюрные истории. К счастью, мне этого не дано. Приказать оберштурмфюреру Фройнштаг немедленно прибыть к вам?
— Но ведь она захочет привести себя в порядок.
— Естественно. Хотя вы сами запретили упоминать о том, что она женщина.
— Таковы «видимые проявления неизвестных принципов природы, являющиеся одинаковыми и одинаково действующие во всей Вселенной»[79], - вновь продемонстрировал Скорцени абсолютную вредность учения.
47
Наконец появился Звездослав. Прежде чем положить карту на стол, он внимательно посмотрел сначала на Беркута, затем на отца. И все понял.
Карта Европы, которую он расстелил перед лейтенантом, оказалась старой и истерзанной, как охваченный войной континент. Но все же на ней можно было найти существовавшие до войны границы, а главное, Звездослав сумел «с точностью до километра», как он уверял, определить точку, в которой находится их хутор. Впрочем, Польша на этой карте была выделена особо и подана более подробно, чем другие страны, так что, возможно, парень действительно определил их местонахождение более-менее точно.
— Как зовут командира вашей группы? — спросил Беркут, все еще не отрываясь от карты, прикидывая, каким путем легче всего пробиваться к линии фронта, к границе Украины.
— Отец уже называл его. Кодур.
— Кличка, конечно?
— Я знаю только это: Кодур.
— Можешь связаться с ним? Сегод ня же. Хотелось бы встретиться.
— Зачем? — не то чтобы испугавшись, но как-то растерянно спросил Звездослав, неодобрительно посматривая при этом на отца. Он почему-то решил, что мысль о встрече с командиром партизан возникла под его влиянием.
— Так можешь или нет?
— Вы хотите встретиться только с Кодуром?
Немного поколебавшись, Беркут решительно заявил:
— Почему только?.. Со всеми. Или хотя бы с теми четырьмя, что бежали отсюда через окно.
Звездослав молча наполнил свою рюмочку, выпил, пожевал бутерброд и, взяв автомат, направился к двери.
— Буду через полчаса. Надеюсь, что с Кодуром. Хотя человек он... — выразительно помотал головой Звездослав.
— Ну и божественно, — ободряющей улыбкой поддержал его лейтенант.
Оставшись одни, Беркут и хозяин какое-то время испытывающе смотрели друг на друга, как бы спрашивая: «Разумно ли мы поступили, что послали его к командиру партизан?»
— Неужели хотите присоединиться к ним? — хозяин вновь повернулся лицом к иконе, поднес пальцы ко лбу, но, так и не перекрестившись, опустил руку.
— Да нет, у нас иные планы.
— Тогда зачем встречаться? И сына посылать не следовало бы. Я вот что надумал, лейтенант: возьмите-ка вы Звездослава с собой.
— Куда «с собой»? В Украину, что ли?
— Она для него не чужбина, — напомнил хуторянин. — Чувствую, что не уберегу его здесь.
— А я должен поклясться, что уберегу? Неужели не понимаете, что вряд ли нам удастся прожить без риска хотя бы один день?
— Почему же? Понимаю, — вздохнул хозяин, разведя руками. — Видно, мне его никак не уберечь. Но с вами он хотя бы сражаться будет за Украину, за родную землю. А здесь... С этими... Начали они вроде бы за идею, но теперь все больше становятся похожими на бандитов с большой дороги. Не пойму я, чего хочет этот сумасшедший Кодур. Да и сам он, наверное, понять этого уже не в состоянии. Потому и сатанеет, мать бы его не крестила.
— Хорошо, допустим, я соглашусь. А как Звездослав? Честно говоря, я и сам подумал, что стоило бы взять его с собой. И не только его. Не исключено, что и другие лесовики из группы Кодура тоже захотят присоединиться.
— Про других не знаю. Правда, есть там один неплохой парень — Петро Вагула. В гимназии вместе со Звездославом учился. Тот мог бы согласиться. Что же касается Звездослава... Благословлю — и пойдет. Только отпустит ли его по-доброму Кодур — вот чего я боюсь, пан лейтенант.
— Так мы его попросим, — едва заметно улыбнулся Беркут. — Мы его убе-ди-тель-но попросим.
— Оно, конечно, можно «попросить», я понимаю... Но вы-то уйдете, а мне оставаться. Здесь, у самого леса. И никто меня от Кодура и его лесовиков не защитит. Так что...
Он не договорил. Во дворе послышался какой-то шум, и, прихватив лежащий на лавке автомат, Беркут метнулся сначала к окну, потом в сени.
— Немцы! — в ту же секунду влетела туда Анна. Она выкрикнула, даже не успев заметить притаившегося за дверью лейтенанта.
— Сколько их? — перехватил он девушку за руку.
— Машина. Остановилась возле разбитого дома. Сюда идут двое. Офицер и солдат.
— Сколько осталось в машине — не заметила?
Анна замялась, и, так и не дождавшись ответа, Андрей выбежал во двор. В калитку уже стучали, требовали немедленно открыть. Арзамасцев — побледневший, с задвинутой за пояс пилоткой — затаился за кучей дров и жестами показывал на ворота: их двое! И видно было, что появление лейтенанта он воспринял как спасение.
«Хотя бы позицию для боя выбрал поудобнее* если уж так стушевался», — укоризненно подумал Андрей, осмотрев ефрейтора. А направляясь к калитке, жестом показал: пилотку... приведи себя в порядок!
И еще успел заметить, что, когда Арзамасцев доставал пилотку, руки его отчетливо дрожали. Очевидно, Кирилл так и не сумел избавиться от ощущения того, что он все еще пленный, беглец, которого в любую минуту могут схватить и расстрелять или загнать за колючую проволоку.
Беркуту не раз приходилось наблюдать, как и через несколько месяцев после побега прибившиеся к партизанам бывшие военнопленные, завидев невдалеке немцев, вместо того, чтобы готовиться к бою, подхватывались и пытались убегать, совершенно забывая, что в руках у них оружие. Не из страха перед немцами, а из ощущения того, что они — беглецы, а значит, спасение их в том, чтобы поскорее убежать и затаиться. Про себя Андрей называл это «лагерной истерикой» и никогда не спешил не только предавать таких бойцов суду партизанского трибунала, но и упрекать их.