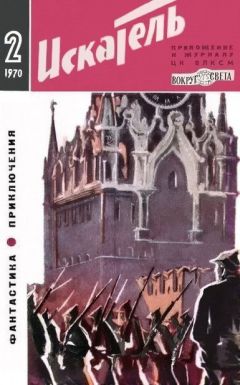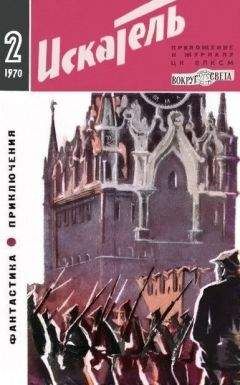Александр Казарновский - Поле боя при лунном свете
Утром, со следами первого в жизни похмелья, помятый как простыни, на которых мы буйствовали, вернулся в Кирьят-Арбу. А все со мной снова, как с лучшим другом. Здороваются, подходят: «Как дела?». Вечером то один зайдет, то другой – чем помочь? На субботу от приглашений отбою нет. Я не понимал, в чем дело.
Оказывается, прождав меня часа полтора, рав Даниель собрал людей и сказал:
– Этому человеку плохо! Этому человеку очень-очень плохо. Только в состоянии тяжелейшего внутреннего кризиса можно совершить то преступление, которое он совершил. Помогите ему – вы ему нужны. Помните, каждый из нас должен быть сторожем брату своему.
Ну чем они мне могли помочь? В душу свою я бы их не пустил. Его бы пустил, но он не дождался, уехал.
Итак, все остались при своих. А «Субару» моей жизни продолжала мчаться к следующему повороту. Однажды в разгар приема больных раздался стук в дверь кабинета.
– Я занят, – крикнул я, не отрывая трубки фонендоскопа от груди больного.
– Илан, – послышался из-за двери голосок Ривки, работницы секретариата поселения. – Тебе звонили, просили перезвонить. Я не могу ждать, оставлю номер у Рахели.
Рахель – так звали мою медсестру. Спровадив посетителя, я взял у нее номер и вздрогнул. Это был наш телефон в Мадине.
К тому времени я уже несколько месяцев не звонил домой. Мне тоже не звонили. Ссоры не было. Скандала не было. Было неприятие. Я оказался меж двух стульев. Арабы уже были мне чужими. Евреи так и остались для меня чужими. Не было ни одного человека на свете, который мог бы стать мне своим. Кроме рава Мейера и рава Бергера. Но оба были недосягаемы – каждый по-своему.
Телефон я себе ставить не стал. « Лэиткашер » дословно переводится, как «связываться» от слова « кешер » – «связь». А у меня « кешера » не было. Некому было звонить и не от кого было принимать звонки. В случае крайней необходимости у меня был рабочий телефон. Кстати, непонятно, почему Ривка попросту не дала этот номер, когда услышала в трубке разыскивающий меня голос с тяжелым арабским акцентом. Жаль! Для рассказа было бы куда эффектнее. Представляете – звонок. Снимаю трубку, а в ней – Мазуз.
– Ты откуда? – спросил бы я – Из тюрьмы?
Но всё было чуть по-другому. Я позвонил домой и услышал голос старшего брата.
– Ман аль мутакаллем? Инни ла асмаак! Ман аль мутакаллем? Инни ла асмаак ! – Кто говорит? Я вас не слышу, – орал он в трубку, пока я осознавал, что это его, а не чей-то еще голос, и соображал, что делать. Наконец, я растерялся и не нашел ничего лучшего, чем разъединиться. Напрасно. Не прошло и минуты как раздался дребезжащий гудок.
Я набрался мужества и снял трубку. Но выдавить из себя ничего не мог.
– Не хочешь с братом разговаривать?! – бухнул он в мое молчание. – Ну, давай, давай, реагируй. Я хоть голос твой услышу.
– Здравствуй, Мазуз, – прошептал я, в конце концов.
– Молодец, хвалю за многословие, – усмехнулся он.
Я молчал.
– Ну, рассказывай, как в евреях-то ходить?
– Мазуз, – пролепетал я. – Тебя что, совсем-совсем освободили?
– Нет, наполовину. Левую ногу выпустили, а правая в тюрьме сидит. Может, хватит глупости говорить? А ты вроде бы и не рад, что я вышел.
– Я очень рад, Мазуз, очень рад, – забормотал я с фальшивом жаром.
– Правда? – удивился он. – А ты не знаешь скольких наши расстреляли за сотрудничество с оккупантами? А ты, между прочим, ярко выраженный предатель. Со всеми вытекающими последствиями.
– Ну, так убейте меня, – спокойно сказал я. – Мне только легче будет.
– Убьем, – не менее спокойно сказал Мазуз. – Только к тебе не прикоснемся – ни ножом, ни пулей, ни осколком бомбы. Сделаем так, что сам сдохнешь. Вот включишь завтра вечером ваш «Мабат» и сдохнешь.
За этими словами последовали частые гудки. Я снова набрал его номер.
– Да отвяжись ты от меня, – сказал он небрежно и опять положил трубку.
Мне оставалось только гадать, что меня ждет в «Мабате». На следующий день пришло сообщение о том, что на рынке в Иерусалиме был взрыв террориста-самоубийцы. Я включил телевизор. Экран был окрашен кровью. Там, где только что лежали свежие фрукты и питы, ходили люди в черных кипах и собирали остатки человечины. Меня начало мутить.
Сообщили о двоих убитых и тридцати раненых. Затем, по мере того, как новые данные поступали из больниц «Хадассы» и «Шаарей цедек», количество убитых стало расти – трое… четверо… пятеро… шестеро… и, наконец, застряло на семи. Забегая вперед, сообщу, что еще двое – студентка и солдат – умерли на следующий день. Как раз начиналось правление Натаниягу, рабиновские речи о том, что «это не остановит мирный процесс», а убитые – «жертвы мира», отошли в прошлое, и раис, опасаясь как бы подобные взрывы не сорвали его далеко идущие планы, дал указание нашим с дальнейшими терактами повременить. Но не все слушались. Про самоубийцу сообщили, что это девятнадцатилетний юноша из Мадины.
Из Мадины так из Мадины. Плохо, конечно, что из моего города, но я-то тут причем? Я еще ничего не понимал.
Ровно в восемь стал смотреть «Мабат». Диктор сообщил, что они получили видеопленку с предсмертным выступлением самоубийцы. На экране возникло лицо Аниса. Он говорил по-арабски, а услужливые наспех изготовленные в студии титры переводили каждое его слово на иврит. Анис говорил, что величайшая мечта его жизни увидеть родину свободной – «от Мертвого моря до Средиземного». Он цитировал Коран: «Если вы умрете или будете убиты на пути Аллаха, получите от Аллаха прощение и милосердие». Ему очень жаль мирных людей, гибнущих вместе с ним, но у них есть родина, которую они или их родители оставили, чтобы лишить Родины его, Аниса, и миллионы палестинцев, а потому нет им ни прощения, ни милосердия. И вновь Коран: «Не вы их убивали, но Аллах убивал их». А еще он сказал, что лично он пошел на это, чтобы кровью смыть позор, который лег на семью Шихаби, когда его старший брат Ибрагим переметнулся в лагерь врага…
* * *– Предатель! Предатель! – бормотали ночные птицы, гнездящиеся в скалах.
– Преда-а-атель! – мяукали кошки.
Дерево услужливо протягивало мне свои сучья – «повесься на мне!» Проезжающие машины, подмигивая фарами, приглашали к себе под колеса.
Я буквально юркнул в свой караван. Телевизор продолжал орать – ведь когда я несколько минут назад вышел из-за того, что мне стало плохо и показалось, что на свежем воздухе станет лучше, я забыл его выключить.
На экране вновь вспыхнуло лицо моего брата. Что за идиотская привычка у телевизионщиков повторять одно и то же – если это, конечно, пахнет жареным – десятки раз.