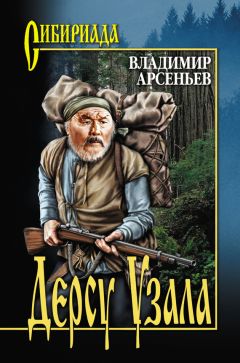Сергей Кучеренко - Корень жизни: Таежные были
Говоря это, он бросал на меня пытливые взгляды: как я реагирую? Я не стал открыто соглашаться с ним, но и не возразил: по-своему Федя был прав.
…А как он варил! Не ленился возить в лодке мясорубку, специи всякие и приправы, и были у нас в любое время и свежие пельмени, и котлеты — мясные, рыбные, даже грибные. Сбегает в лес и уже что-то несет: гриб «олений рог», травку какую-то, побеги. И все — в варево. Пришлось нам однажды засидеться на рыбе, и приелась она порядком. А Федя как-то повесил над костром котелок и широко улыбнулся: «Сварю уху, какую ты будешь уплетать». Я скептически заметил: «Мою долю собаке…» Но все съел сам: Федя бросил в котелок вслед за рыбой горсть квашеной капусты, какую-то травку, и вкус ухи стал особенным. В другой раз приготовил уху с лимоном. В фарш для пельменей непременно добавлял капусту, и они получались очень сочные.
Бывало, свежую рыбу у огня зажарит на пруте так, что съешь ее и «пальчики оближешь». А то обмажет выпотрошенного, но не ощипанного рябчика глиной — и в костер, а через час выкатит из жара ком прокаленной глины, разломит его, и вот оно — изысканное ресторанное блюдо. Я неистребимо помню вкус завяленных им ленков и тайменей, засушенного мяса, слабо посоленной, подвяленной кеты, строганины.
Единственным отвергавшимся мною блюдом была тала — мелко нарезанное мясо свежих ленков, которую он ел помногу и охотно, хотя и пугал я его возможностью заразиться опасным нанофиетозом. Он улыбался: «Волков бояться — в лес не ходить».
Как сейчас вижу его у костра: в чистом фартуке, с тщательно отмытыми руками, с почерневшим от загара улыбающимся лицом.
Пожалуй, наиболее яркой чертой его характера была жизнерадостность. Он не упускал возможности пошутить, рассказать что-нибудь смешное, а порой и созоровать. При этом больше всех смеялся сам — громко, заразительно, иногда до слез. Случалось, я подходил к нему, не зная, над чем он хохочет, и как бы авансом улыбался сам просто потому, что смеется Федя.
Но веселость у него сочеталась с работой столь естественно, что не мешала ему все время быть при деле. Просто так он никогда не сидел. Если присаживался отдохнуть, то обязательно держал в руках нож, корень, палку, дощечку, намереваясь из них сделать что-то определенное. Если же валился на медвежью шкуру, служившую ему постелью, а то и просто на траву или гальку — значит, хотел спать. И засыпал он через минуту. На мое удивление этой способности отвечал: «Ты, когда я хочу спать, брось меня на шиповник или корягу, и я усну. Зачем терять время?»
Федя обладал крепким природным умом. Однажды уперлись мы лодкой в глухой залом и начали соображать, как его преодолеть. Я предложил несколько вариантов: распилить бревна, растащить коряги, разбросать плавник. Федя слушал, но продолжал молча осматривать залом. А потом присел, закурил и тихо сказал: «Перерубим вон то бревнышко, оно освободит этот корч. Протолкнем его шестами — уплывет. Потом залом будет держать вон то дерево, надо его зацепить лодкой и оттянуть. Останется этот топляк, а мы через него протолкнемся. А?»
Вся эта операция заняла минут десять, и точно по Фединым расчетам. Я подумал: «Он был бы хорошим шахматистом: в разборке залома пять ходов вперед точно обмозговал».
В тот день на нашем пути встал еще один, примерно такой же, залом. Я лазил по нему, продумывая «шахматные ходы», как бы не посчитал Федя, что я лыком шит. Он внимательно выслушал два моих предложения, поулыбался им да и оценил со всей откровенностью: «Зачем же, Петрович, столько трудов, когда лодку мы перетащим в сто раз легче вот по этой канаве, она же у тебя под носом, разве не видишь?» По узенькой проточке лодку протащить оказалось действительно несложно, и я был посрамлен и уж в который раз убедился, насколько Федя умен и практичен.
Ум был у него не только крепкий, но еще и быстрый. Как-то, выскочив вниз по течению за крутой поворот речки, мы неожиданно увидели недавно упавший с берега на берег громадный кедр, перекрывший ее и шумно цедящий сквозь свои ветки почти весь поток. Я только подумал: «Не развернуться, не успеть; сейчас придавит и перевернет», как мотор взревел в полную силу, а лодка устремилась… вперед. «Держись!» — услышал я и все понял. Федя мгновенно уловил между толстых ветвей небольшой промежуток, где вода водопадиком переваливала через ствол кедра, и ринулся к нему решительно и уверенно… Мягкий удар в днище, встряска лодки, короткий свободный полет, каскад брызг — и тишина: мотор заглушён, лодка мирно качается на волне, а Федя улыбается: «Бравые мы ребята, верно ведь, Петрович? Давай закурим, товарищ, по одной, давай закурим, товарищ мой». В тот день я записал в полевой дневник строчку: «Быстродум — противоположность тугодуму, хотя оба могут быть умными».
Пожалуй, больше всего меня поражало его знакомство с повадками и образом жизни зверей, птиц, рыб и прочей живности. Бывало, спросит: «Кого на ужин изловить — щуку, хариуса, ленка?» Вечером заказ оказывался выполненным. Случалось, он велит разводить костер и ставить на огонь котелок для варки рябчиков, а сам убежит с малопулькой. Возвращался с двумя-тремя птицами.
Как-то ранним утром он подманил свистулькой рябчика так близко, что я накрыл птицу курткой. В другой раз он с лодки заметил в траве косулю и предложил, улыбаясь: «Давай поймаем». Я удивился: «Как поймаем?» — «Зайдем под ветер и подкрадемся тихонько, потом — за копыта…» Я отказался от этой, как мне показалось, авантюры, а он на моих глазах ту косулю почти словил. Разделся до трусов, сплел подобие щитка из кустиков, загородился им. Подходил очень тихо, смотрел предельно обостренно. Когда косуля вскидывала на него голову, он замирал на минуты, а когда та успокоенно начинала пастись — шел. Подкрался к ней метров на пять, а мог, пожалуй, и ближе, но не сдержал своего смеха.
Животных он не только знал, но уважал и любил. Однажды спросил меня: «Почему зверей зовут братьями нашими меньшими?» Я сказал, что в одном стихотворении Есенина написано: «И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове». Федя долго осмысливал эту фразу и заключил: «Плохо знал Есенин этих братьев, не младшие они нам, а старшие». Я от неожиданности такой мысли не возразил ему, но он через несколько минут пояснил: «Звери только говорить не умеют так гладко и много, как люди, они просто неболтливы. Зато без причины не дерутся и кровь зря не проливают. А как видят они — даже ночью! — как слышат, а нюх какой у них! В мильон раз сильнее нашего!.. Было дело, принес я в зимовье замерзавшую сову, отогрел ее, подлечил, откормил. Мышей тогда развелось много, так она очистила от них хату враз. Но что ты думаешь! Сидит днем в углу спиной ко мне и дремлет, а начни я сгибать-разгибать пальцы — оборачивается, слушает. Да ты перед самым своим ухом шевели пятерней — ничего не уловишь и через усилитель… Ночью в избе чернее черного, хоть глаз коли, а она запросто охотится. Как видит в такой темноте — ума не приложу.