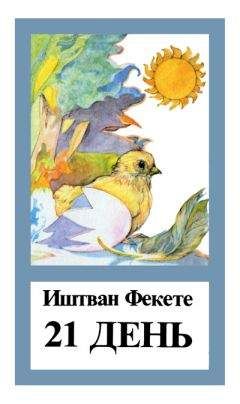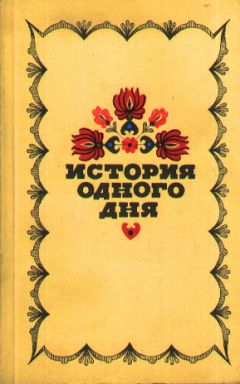Иштван Фекете - Репейка
Репейка открыл глаза, но вид у него был неприветливый.
— Я сплю…
Кошечка мягко прилегла к нему, почти не коснувшись.
— Мы можем и вдвоем спать, если ты не против. Старая Дама все стонет да чешется. Вот и в прошлый раз забыла она, что я рядом, и так пнула ногой, когда чесалась, что я отлетела к стене.
— Ну, хватит! Теперь замолкни, а не то и я тебя пну, как следует.
Мирци сразу притихла. Сперва ей показалось, что следовало бы помурлыкать, но потом она просто закрыла глаза, и двор был предоставлен самому себе.
— Если больной засыпает и без снотворного, — сказал главный врач сестре, — не давайте. После ужина загляните к нему, посмотрите, клонит ли его ко сну… можете даже спросить.
Но старому мастеру снотворное не требовалось. Поел он немного, но с удовольствием, потом проглядел иллюстрированные журналы, и мысли унесли его в далекие края, которые изображены были на картинках. Он видел фабрики, где возле сотни веретен стояла одна девушка, и редких рабочих среди бесчисленных токарных станков. Повсюду машины, машины.
— Мир движется вперед, — бормотал он и раздумывал о минувших временах, вспоминал веретена прялок, ножные токарные станки. Хорошо бы знать, что будет еще… но потом он тихо уснул, когда же проснулся, то думал уже о пчелах, о Лайоше и о своей комнате, по которой сейчас не скучал.
— Есть у меня здесь все, что требуется.
Он вспомнил о трубке, но почувствовал, что курить не тянет, и — как ни удивительно — не хотелось и домой.
В постели он не ощущал слабости, и в мыслях все были с ним рядом.
— Если не уснете, дядя Гашпар, позовите, — сказала ночная сестра, и старику приятно было, что его назвали по имени. — Я ведь знаю вас, дядя Ихарош, мой отец бондарь был. Янош Балла.
— Янош? Ну-ну… мы ж с ним вместе в парнях гуляли, вот так-так, Янош… Есть у меня и бочка его работы. Хорошим был мастер. Настоящий…
— Да, вот уж двадцать лет… как нету его…
— Жалко, очень жалко. Ну, что же тут скажешь, как кому на роду написано, верно…
— Так если что понадобится, вы только позовите, дядя Ихарош.
— Что мне понадобится, все у меня есть. И аптекарь заходил — тоже хороший человек, — послезавтра дочка приедет… А я лежу, картинки смотрю, иногда задремлю, чего ж мне больше.
Сестра вышла, и старый мастер с улыбкой смотрел ей вслед. Славная девушка, подумал он и улыбнулся, потому что вспомнился ему двадцать лет назад умерший Янош Балла, мастер бондарь, всегда готовый на спор залпом осушить бутылку вина. Он был веселый приятель, этот Янош, возникший сейчас из прошлого… Вслед за Яношем, чуть ли не держась за руки, явились давно ушедшие дружки: долговязый живописец, расписывавший храмы, каменщик с пегими усами, пузатый сапожник, рыбак из Ревсигета… все те, с кем лучше было не встречаться в дешевой закусочной на ярмарке, потому что приходилось высиживать до последнего под одинокий наигрыш цимбал, пока отчаявшийся выставить их хозяин, торговавший только вином да колбасой, не начинал сворачивать навес над их головами.
— А нам и под чистым небом неплохо, — хорохорился живописец, я-то привык к высоким куполам.
Интересно, жив ли он, раздумывает старый мастер, давненько уж о нем ничего не слышно… Что каменщик умер, он знает, рассказывал один человек, сам видевший, как отложил Ласточка свой мастерок. В прежние времена каменщиков «ласточками» звали, потому что их рабочая страда начиналась, когда прилетали ласточки и принимались выкладывать степы своих гнезд.
Одним словом, стоял Ласточка как-то на кладке и вдруг мастерок замер в его руке. Остановился он и сказал неуверенно:
— Ну и ну… темно-то как стало…
— Красивая смерть, — кивнул себе мастер Ихарош, — вот уж истинно красивая смерть.
Но рыбак еще жив. Говорят, почти ослеп, но сети плетет и сейчас не хуже, чем когда у него были орлиные глаза. И слово его по-прежнему закон, они ведь там опять объединились в кооператив и решают не деньги — голосом арендатора, — а те, чьи жизни с жизнью воды едины. Когда-то говорили: рыбачий куст, — нынче называют рыбацким кооперативом. Но первое слово в кооперативе за тем, кто больше других разумеет в немом языке рыб, что же, оно и правильно…
Сапожник уехал к дочери, куда-то под Кеменеш, о нем тоже ничего не слышно, но сейчас, вспоминая, Гашпар Ихарош видит их всех с собою рядом, и живых, и умерших. И нет меж ними никакой разницы, ведь он их видит, слышит их голоса, как будто то, что некоторых из них уже нет, собственно говоря, не имеет никакого значения. Сейчас они все здесь, словно тихая эта комнатка была зрительным залом, откуда можно раскручивать в обратную сторону далекий фильм жизни и времени. И не жалеет старый Ихарош, что он сейчас один. «Сегодня» почти не осталось, того же, что было, никто изменить не может. Он не думает, было ли хорошо или плохо, не судит, — лишь смотрит фильм с улыбкой, иногда печальной, как человек, купивший билет в кино и знающий, что все это только игра, и под конец он уйдет домой. Уйдет один, ведь самого себя человек никогда не видит. Потому что и внутри себя он всегда остается лишь зрителем…
Света он не включил, зачем расходовать зря? Но на улице вспыхнули фонари, и на белой стене зашевелилась тень липы, она баюкала, укачивала.
«Липа…» — промелькнуло напоследок в мозгу, потом закрутился перед глазами токарный резец, и бархатный плащ липы, завиваясь стружкой, стал опадать к ногам.
Гашпар Ихарош видел сны.
А вот Репейка снов не видел.
Правда, сперва он немного поспал и тем временем высох, чему приятно способствовала Мирци, согревая его сбоку. Немного погодя он повернулся к ней другим боком, и Мирци исправно обогрела и его.
К тому времени, как прохладные вечерние тени затянули весь двор, Репейка был уже совершенно сух и не стал протестовать, когда Мирци вдруг потянулась, сообщая тем самым, что намерена его покинуть.
— Пройдусь, погляжу вокруг, — говорило это движение, но Репейка и сам знал, что настало ее время, — время сов, мышей и кошек.
Правда, Мирци была воспитана Дамой, но в своих поступках, в отношении к охоте она была все-таки кошка, видевшая в темноте почти так же, как сова, чья зоркость и чуткость в ночи несравненны. Мирци многое понимала на языке тьмы, но истинным мастером была, конечно, сова.
Однако для совы было рановато. Сумерки еще не вечер, еще метались кругом неясные тени, словно не желали уходить на покой и прятались между заборами, за углами домов, возле печных труб, хотя и зевали уже, словно дитя, ожидающее, когда же его укроют получше.
Репейка остался один. Где-то под шерстью затаилось приятное ощущение чистоты, и оно связалось — сейчас впервые — с водой и Розалией. Это были, однако, лишь беглые ощущения, тогда как доносившиеся из кухни звуки пробуждали извечные требования, взывая к желудку.