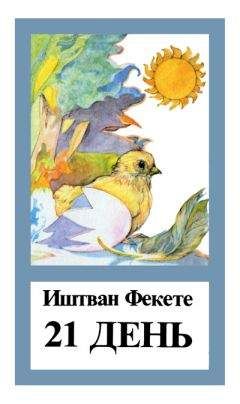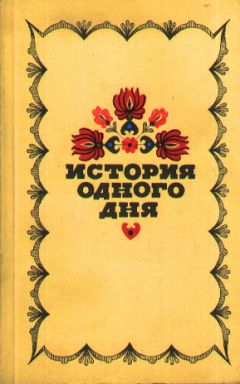Иштван Фекете - Репейка
— Приступ печени… это говорят очень больно, — сказала Анна.
— Очень! — подтвердил доктор. — А зависит часто только от того, ест человек жирное или нет. Я уже полсотни раз объяснял Коломпошу, да он не верит. Знай твердит: сало-то вроде было нежирное… а потом смерти просит. Старику, к сожалению, дать затрещину не могу, хоть он и заслуживает. Ну, спокойной ночи. Молот свой положи под голову, Лайош, потому что я со шприцем приду…
Доктор ушел и, так как Лайош провожал его, пошел провожать и Репейка. Он как раз кончил обгладывать кость и отнес остатки к стене, чтобы заняться ими, может быть, ночью; таким образом, ничто ему не мешало проявить любезность, впрочем, вовсе не обязательную.
Вернувшись, он с горечью, а потом и с гневом обнаружил, что проводы были излишни, а что излишне, то и дурно, ибо кость — исчезла. Ведь Анна была хорошая хозяйка: увидев, что кость превратилась в закусочную для мух, она тотчас подхватила совком гладко очищенный, отполированный мосол и выкинула в мусорную яму. Мухи, естественно, последовали за костью.
Репейка об этом, конечно, ничего не знал, поэтому, обнюхав место, где оставил свою драгоценность, вопросительно посмотрел на хозяина, потом на Аннуш.
— А куда девалась та вкусная косточка?
— Посмотри на щенка, Аннуш, он кость ищет.
Репейка понял, что слово «щенок» относится к нему: возможно, тут затевается какая-то игра. Однако, этого нельзя было сказать наверняка, потому что люди были серьезны.
Репейка опять посмотрел на хозяина, уловил, что глаза смеются, и тотчас вскинул передние лапы ему на колени:
— Ты ее спрятал?
— Чего тебе, Репейка?
Репейка вертел хвостом.
— Здесь была кость, а теперь нет кости…
— Я с места не двигался, — объяснил старый мастер, — если здесь и распорядился кто, так разве Аннуш только.
Репейка посмотрел на Аннуш, потом спустил лапы с колен старика и застыл перед женщиной.
— Если кость у тебя, то будь добра…
Анна упорно глядела в стену, но глаза ее смеялись.
— Здесь готовится какая-то игра, — догадался щенок и положил голову Анне на колени.
— Чего тебе? — засмеялась Анна.
— Ага, — залаял Репейка, — ага-ага! Так это ты! Где моя кость? — И, ласкаясь, схватил Анну за юбку:
— Если будем играть, ты отдашь мне кость?
Можно ли было устоять против этого!
Анна обеими руками взяла голову собаки, заглянула в блестящие, смеющиеся, умные глаза.
— Ах ты, разбойник! — Она встала и повела щенка к мусорной яме. — Вот твое сокровище.
Репейка ринулся на кость, схватил в зубы, бросился с ней в сад и спрятался под кустом, но Анна за ним не пошла, как видно, не хотела больше играть…
Под кустами было тенисто, тихо. Мухи сюда не залетали, — эти перепончатокрылые предпочитают солнце, — поэтому Репейка полежал, прислушиваясь, потом зарыл кость и отправился осматривать сад.
Он провел осмотр с обычной тщательностью, ибо люди на порожке тихо беседовали и это означало, что охранять их сейчас не требовалось.
Репейка дважды пробежал вдоль забора, чуть-чуть надеясь увидеть Бодри, но от соседки не было ни слуху, ни духу, так что, судя по всему, в ту ночь она отмучилась окончательно, и это как-то было связано с двумя чужаками и полученным от них ударом по голове.
В соседнем саду Ката со своим выводком искала насекомых; у цыплят пух уже прикрывался перьями, но вряд ли им приходило в голову, что они вступают в тот самый возраст, который люди обозначают словами: «годится на жаркое». Это обозначение в то же время и приговор, но тут уж ничего не поделаешь. Ката, естественно, воюет за своих цыплят, когда это нужно, но с властью, облеченной в юбку, воевать невозможно, да Ката и не замечает, как вместо шестнадцати цыплят остается четырнадцать, потом двенадцать. Ката не очень-то сильна в арифметике, оттого и не знает, что такое печаль. Человек же в ней разбирается, — и, как знать, не потому ли иногда печален? Можно бы поразмыслить на эту тему, а впрочем, не стоит.
Ката вообще ни о чем не думает, только о самом насущном, и ей этого достаточно. Вот она видит Репейку, одна нога ее повисает в воздухе, и она говорит:
— Ку-уд-куда… вижу тебя, маленькая собачка.
— И я тебя вижу, Ката, — вильнул хвостом щенок, — не знаешь, где Бодри?
Ката опустила ногу.
— Ко-ко-ко, — обратилась она к цыплятам, — покопайтесь в мусоре, пока я разговариваю с соседом… Нет, собачка, я не знаю. Бодри моя приятельница, хотя и крала мои яйца…
— Крала?
— Ну да, ведь яйца принадлежат человеку. Только человек не понимал, когда я кричала: вот яйцо, вот яйцо! А Бодри понимала… Ко-ко, — повернулась она к разбежавшимся цыплятам, — спать пора.
Репейка остался один в оплетаемом тенью саду.
Солнце клонилось к закату, покоя остывающие лучи на верхушках деревьев. Свет все убывал, а тишина нарастала, и в ней обретали крылья запахи земли, деревьев, сада и огорода. Жужжание пчел стягивалось к ульям, которые гудели мягко и сонно, как будто миллионы живых крошек-мельниц перемалывали собранную за день пыльцу.
Репейка сбегал в конец сада, понаблюдал, как стремительный ястреб выхватил воробья из разлетевшейся стайки, и взглядом скорей одобрил эту артистическую охоту. Ястреб исчез со своей добычей, и щенок сразу отвернулся, потеряв к воробьям интерес, тем более, что вдоль забора кралась Цилике с чем-то съедобным в зубах.
Цилике была по эту сторону забора, однако пробиралась среди кустов и легко увернулась от бросившегося на нее Репейки. В следующий миг она сидела уже на столбе забора и смотрела на Репейку с презрительной ненавистью.
— И ты еще хочешь со мной тягаться? Ты-ыы, — сказал этот взгляд, — ты, вшивый пес!
— Погоди, мы еще встретимся, — проворчал Репейка, — мы еще встретимся!
— И я выцарапаю тебе твои подслеповатые буркалы. Но сейчас я собираюсь поесть. Ну, и лакомый кусочек нашла я в твоем саду, чуешь, как пахнет? — И Цилике, почти не разжевав, проглотила находку. Проглотила и уставилась перед собой, словно прислушиваясь… еще раз глотнула, потом соскочила с забора к себе.
Этот прыжок, однако, не слишком ей удался, и Репейка с содроганием увидел, что Цилике ведет себя точно так же, как Бодри. Она выгнулась дугой, скорчилась, по всему телу прошла судорога, словно ее выворачивало наизнанку, и стала кататься среди кустов картошки.
Цилике мяукала отчаянно, протяжно, невыносимо, но тише и тише. Потом все кончилось. И Репейка побежал к своему порожку, вдруг ощутив острую тоску по людям.
На порожке сидел Лайош, сонно попыхивая трубкой, а старый Ихарош смотрел на улетающий дым.
Сейчас и не тянет закурить, думал он, а ведь хорошо, если б захотелось.