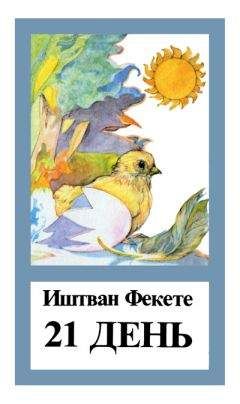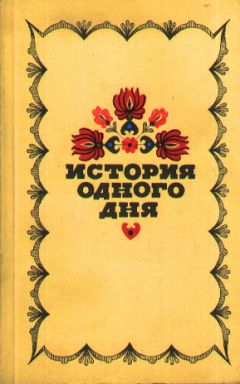Иштван Фекете - Репейка
— Будь у меня столько дела, сколько у подпаска, может, и я посмотрела бы…
Янчи не отозвался: Маришка была настроена воинственно и разумней было обходить ее сторонкой. Вот почему он начал уборку с дальнего конца овчарни, набрасывая свежую солому на вчерашнюю грязную подстилку.
На дворе становилось меж тем все светлее, щипец сарая засверкал в холодном желтом сиянье. Над лесом на головокружительной высоте плыли к далекой неведомой цели вороны, на осыпавшуюся из-под навеса полову налетели овсянки и не вспархивали, даже когда старый пастух, насадив на вилы большую охапку сена, сбрасывал ее на короб.
На шорох сена выметнулись к овсянкам и заспавшиеся воробьи; когда же из загона в сопровождении всего гарема вышел петух и кукареканьем приветствовал солнце, сразу наступило вдруг утро.
Янчи покончил с подстилкой, когда же они со стариком доверху набросали в короба пахнувшего летом сена и затворили ворота овчарни, огромное помещение стало чистым и теплым, словно спальня, которую только что прибрали, проветрили и протопили. В окна светило солнце, солома блестела, напоминая о ярком тепле минувшего лета, бараны и овцы с хрустом перемалывали сено, мягко шуршали сотни жующих ртов — будто множество крохотных мельниц перемалывали холодную темную стылость ночи в теплую живую жизнь.
— Репейка, вот тебе молоко, — сказал Янчи, разгребая в соломе ямку для собачьей миски; однако, едва рука его приблизилась, Репейка сердито заворчала. Не ворчи, бестолочь, я молока тебе принес.
Репейка не отозвалась, зато Чампаш тут же подошел к Янчи, ибо знал наверное, что слово «бестолочь» непременно должно относиться к нему. Итак, Чампаш подошел и захотел понюхать миску, поскольку был не только непочтительным, но также завистливым и чрезвычайно любопытным созданием.
Янчи ничего не сказал, только присел на плетеный короб и ухмыльнулся. А потом и вовсе громко захохотал, увидев, как Репейка, словно черная ракета, вылетела из своей крепости, служившей также родильным домом, так что осел, испуганно пятясь, едва не сел на свой зад. Собака показала сверкающие клыки, а Чампаш, обмахиваясь хвостом и часто прядая ушами, довел до сведения Репейки, что хотел лишь понюхать, только и всего.
— Ступай на свое место, — ощерила зубы Репейка, — тебе здесь делать нечего. У меня сынок родился, словом, подойдешь близко — укушу.
— Я же не знал… не знал, — объяснял Чампаш, — впрочем, и я умею лягаться.
— Ешь, Репейка, — посоветовал Янчи, и собака стала торопливо лакать молоко; под конец даже вылизала миску.
— Ну, иди сюда, Репейка.
Собака сперва села, облизала губы, потом подошла к Янчи и, немного дичась, дала себя погладить. Однако, минуту спустя она выскользнула из-под его руки и юркнула в солому; теперь светились только ее блестящие черные глаза.
— Спасибо за молоко, — говорили глаза, — но теперь я хотела бы остаться с моим сыном одна.
Три-четыре дня спустя Репейка уже часто стала покидать свое логово, но стоило кому-либо приблизиться, тотчас бросалась к щенку и, закопавшись в солому, встречала посетителя угрожающим рычаньем.
— Ну, не дрянь ли ты, что ворчишь все, — рассердился на пятый день Янчи. — Я тебя кормлю, пою, а ты знай щеришься на меня. Лакай свое молоко, а я погляжу сейчас на твоего знаменитого щенка. Сюда, Репейка! — приказал он.
Голос был суровый, даже угрожающий, и собака поняла, что сейчас с Янчи шутки плохи.
— Хоро-ош, вон какой толстый! — Подпасок погладил лежащий на его ладони вылизанный до блеска комочек шерсти. — Ишь, тяжелый! Ну, теперь можешь забрать его к себе.
Репейка с бесконечной осторожностью взяла в зубы скулящий комок, втащила в дыру, затем, помахивая хвостом, вернулась к своей миске.
— Погоди, вот тебе еще, — сказал Янчи и угостил собаку куском хлеба, смазанного жиром. Репейка проглотила и хлеб, потом лизнула руку Янчи и, усиленно виляя хвостом, сообщила, что после всех этих угощений не возражает, чтобы Янчи иногда брал ее щенка, хотя, конечно, лучше пока оставить их обоих в покое.
Время однако шло своим чередом — как ни медленно ползет оно в конце декабря, — и на тринадцатый день слепые глаза щенка раскрылись. Сперва он все моргал, словно туманные глазки цвета жести с трудом впивали в себя свет, но вот они распахнулись окончательно и сфотографировали тот крохотный кусочек мира, какой открылся малышу из-под соломы. Впрочем, все эти дни щенок в основном спал, если только не сосал, и занимал все больше места в их теплом углу. Маленький Репейка рос быстро и стал уже круглым, как яблоко, чего никак нельзя было сказать о его матери. Она совсем исхудала и напоминала теперь чесалку, зубчатое приспособление для расчесыванья конопли, у которого только и есть, что острые зубья да ребра. Но собака-мать о себе не тужила, да, по правде сказать, ее сын — тоже. Видно, матери на роду написано худеть, а ее отпрыску — толстеть: ведь придет время, и нынешние молодые в свою очередь исхудают, став матерями и отцами собственных детей.
Вместе со светом, с видимыми через небольшое отверстие их убежища предметами, приобрели цвет и форму и звуки, которые — пугающие ли, подозрительные или приятные — вписывали свои сигналы в маленький череп, ставший дневником развивающегося сознания маленького Репейки. Звуки материнского голоса, доносившегося из того незнакомого большого мира, наполняли его ощущением безопасности, людская речь — изумлением, крик Чампаша — ужасом. Чириканье воробьев вкатывалось в уютное гнездышко бесполезными камешками, когда же по соломе шуршали материнские шаги, в животе возникало приятное ощущение, и щенок начинал скулить, чтобы милые шаги не свернули куда-нибудь в сторону.
Он еще не умел вставать и только елозил на животе взад-вперед, но хвостик уже нерешительно шевелился, предвещая, что вскоре он станет важным средством общения, выражения настроений — словно трепетный инстинкт, получив направление в мозгу и пробежав по позвоночнику, доверяет хвосту выразить тем, кому надлежит, ласку, злость или любовное томление.
Однако, любопытство маленького Репейки росло не по дням, а по часам, и все подталкивало его встать на коротышки-ножки (на левой передней лапке у него было внизу белое пятнышко). Наконец, ему это с горем пополам удалось: лапки разъезжались и подкашивались, что не удивительно, ведь косточки у него были совсем мягкие, суставы слабые, а мускулы вялые, будто тряпки. А тут еще — живот, как у каноника, да толстые ляжки… одним словом, наш юный приятель падал, вставал, падал, опять вставал на лапы, но не сдавался: ему было совершенно необходимо поглядеть, что же там, за голосами и звуками, что творится вокруг, в огромном окружавшем его мире.