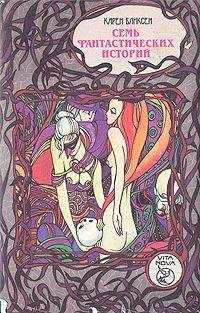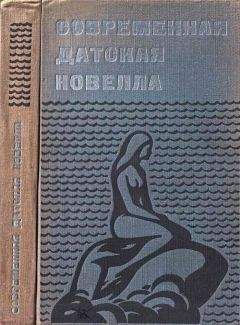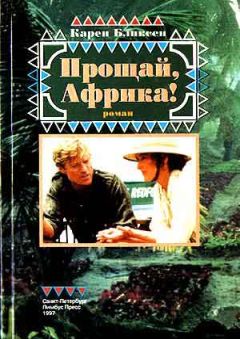Карен Бликсен - Из Африки
К моему удивлению, на следующее же утро после нашей встречи Каманте явился на прием. Он стоял в сторонке от остальных трех-четырех больных и, несмотря на полумертвое выражение лица, старался держать спину прямо, словно его еще что-то связывало с жизнью и он решился на отчаянную попытку продлить ее хотя бы немного.
Со временем он проявил себя прекрасным пациентом. Он приходил тогда, когда ему было велено, и проявлял способность вести счет времени, безошибочно являясь через три дня, на четвертый, чего обычно не приходилось ждать от его соплеменников. Он переносил болезненное лечение своих язв с такой стойкостью, что я не верила своим глазам. Все это превращало его в образец для подражания, но я не выставляла его таковым, потому что в то же самое время он причинял мне немало душевных страданий.
Мне крайне редко приходилось встречаться до этого со столь же дикими натурами, настолько отгороженными от мира и по собственной твердой воле невосприимчивыми к окружающей жизни. Задавая ему вопрос, я могла добиться от него ответа, но он никогда не произносил ни единого слова по собственному желанию и избегал на меня смотреть. Он был напрочь лишен жалости и с презрительным превосходством реагировал на слезы других больных детей, когда их обмывали или перевязывали, хотя не удостаивал взгляда и их. У него не было желания вступать в какой-либо контакт с окружающим миром, так как он уже успел обжечься и познать жестокость. Силой духа перед лицом боли он походил на старого воина. Старого воина уже ничто, даже самое ужасное, не может удивить: жизненные испытания и философия жизни приготовили его к худшему.
Каманте был величественен в своей отрешенности. В его присутствии я вспоминала символ веры Прометея: «Я неотделим от боли, как ты — от ненависти. Рви меня на части: мне все равно. Делай свое дело: ведь ты всесилен». Однако такое отношение к происходящему со стороны столь маленького создания заставляло сжиматься мое сердце. Что подумает Господь, думала я, когда перед Ним предстанет такое очерствевшее маленькое существо?
Мне хорошо запомнился момент, когда он впервые посмотрел на меня и соизволил по собственному желанию ко мне обратиться. К тому времени мы уже давно были знакомы; я отказалась от прежнего метода лечения и испробовала новый — горячую припарку, состав которой выудила из книг. В своем рвении достичь совершенства я переусердствовала и сделала припарку слишком обжигающей. Когда я приложила компресс к его ноге и стала ее бинтовать, Каманте произнес:
— Мсабу.
Это слово сопровождалось выразительным взглядом. Африканцы прибегают к этому индийскому словечку, когда обращаются к белым женщинам, но произносят его по-своему, превращая в слово, звучащее вполне по-африкански. В устах Каманте это была просьба о помощи и предостережение: так предостерегают верного друга, когда он делает что-то неподобающее. Потом, размышляя об этом событии, я исполнилась надежды. У меня уже возникли определенные амбиции как у врача, и мне было стыдно, что я приложила к его ноге такой горячий компресс, но одновременно и радостно, потому что появился первый проблеск взаимопонимания между мною и этим диким ребенком. Испытанный страдалец, ничего, кроме страданий, не ожидавший от жизни, он тем не менее не ждал от меня такого обращения.
Что касается состояния его здоровья, то здесь перспектив не просматривалось. Я очень долго промывала и перевязывала ему ноги, но его болезнь была сильнее меня. Иногда ему становилось лучше, но потом язвы открывались в новых местах. В конце концов я приняла решение отвезти его в больницу шотландской миссии.
Это мое решение было достаточно фатальным, и при всех возможностях, которые оно открывало по части произведения на Каманте впечатления, он не захотел ехать. Опыт и философия научили его не слишком много протестовать против чего-либо, но когда я привезла его в миссию и отдала в больницу — длинное чужое здание, в совершенно чуждые, загадочные для него условия, он содрогнулся.
Миссия Шотландской церкви находилась по соседству с моей фермой, в двенадцати милях к северо-западу, и располагалась футов на пятьсот выше; в десяти милях к востоку имелась также французская католическая миссия: она помещалась на равнине и лежала, наоборот, ниже фермы на пятьсот футов. Я не симпатизировала ни одной из миссий, но дружила с обеими и сожалела, что они враждуют.
Святые отцы-французы были моими лучшими друзьями. Утром по воскресеньям я ездила с Фарахом к мессе — отчасти чтобы попрактиковаться во французском языке, отчасти потому, что к миссии вела живописная дорога. Она шла через старые посадки австралийской акации, сделанные лесным ведомством, и сильный хвойный аромат, источаемый этими деревьями, было особенно приятно вдыхать поутру.
Я поражалась, насколько римско-католической церкви удается повсюду, где она ни появляется, насаждать свойственную ей атмосферу. Святые отцы сами спроектировали и выстроили с помощью местной паствы свою церковь и имели основания ею гордиться. Церковь получилась большая, изящная, серая, с колокольней; ее окружал просторный двор с террасами и лестницами, а вокруг простиралась кофейная плантация, старейшая в колонии и процветающая благодаря правильному хозяйствованию. Во дворе имелась также трапезная с арками и помещения монастыря, а также школа; ниже по реке стояла мельница. Чтобы достигнуть церкви, надо было переехать арочный мост. Все сооружения были сложены из серого камня и смотрелись на фоне местного пейзажа аккуратно и одновременно внушительно, как где-нибудь в южном кантоне Швейцарии или на севере Италии.
Дружелюбные святые отцы по окончании мессы приглашали меня на рюмочку вина в свою просторную и прохладную трапезную; там я с восхищением внимала их рассказам и удивлялась их осведомленности о событиях в колонии, даже в самых дальних ее уголках. Продолжая учтивый и приятный разговор, они умудрялись вытягивать из собеседника любые новости, носителем коих он мог являться, напоминая при этом стайку мохнатых бурых пчел — все они носили окладистые бороды, — виснущих на цветке и охочих до меда.
При всем своем интересе к жизни колонии они оставались изгнанниками в типично французском духе, с радостью и смирением выполняющими некое высочайшее и совершенно загадочное для непосвященных повеление. Чувствовалось, что не будь этой неведомой другим воли, здесь не оказалось бы ни их, ни этой церкви из серого камня с высокой колокольней, ни аркады, ни школы, ни аккуратной плантации, ни миссии вообще. Как только им выйдет помилование, они с радостью устремятся назад, в Париж, перестав интересоваться кенийскими делами.