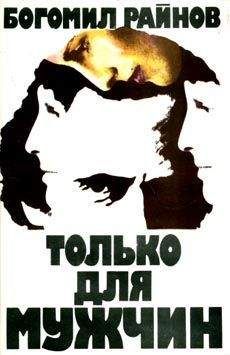Василий Юровских - Сыновний зов
Песенный дом
Ночевал ли он у себя дома — в дупле сырой, посеревшей от старости осины, — откуда я мог знать, коли забрел переночевать на сухую хребтину острова, когда залепестились по весеннему небу крупные звезды. Они ярко отсвечивали на разливе талой воды кругом суши, словно всюду было одно небо, кроме кусочка отогретой за день земли. И пока не заснул, мне чудилось, будто я куда-то плыву среди безбрежного вселенского простора.
Разбудил меня скорее не предрассветный холодок с воды, а чье-то зябкое, вполголоса: «Быр-р-р, быр-р-р». «Кто-то тоже в лесу спал и проснулся наперед меня, и теперь бодрится, греется да еще покрикивает», — подумал я и заозирался. Еще широко не рассвело, но и при слабом синем свете, что начинал разливаться с оттаявшего востока, никого на острове не оказалось. Меня окружала вымочка — посохшие редкие березы и осины без кустарникового подлеска, спокойно посветлевшая вода-снежница, а вглубь чернели полузатонувшие в болоте тальники.
— Быр-р-р! — воскликнул кто-то справа и, когда я запрокинул голову, увидел красноголового пестрого дятла. «Быр-р-р», — повторил он и скользнул осиной к темному пятну на стволе. Дятел стаял в нем, и я уже точно знал: тут, на месте отмокшего и иструхшего сучка, дятел пробился до красноватой мягкой сердцевины, выработал ее и изладил в живой осине надежное жилье.
— И я озяб, сосед, и мне свежо на утре, — сказал я дуплу, куда юркнул дятел, и занялся костром. А вскоре и забыл о соседе, слушая заблеявших и затекавших бекасов, дальнее побулькивание косачиного тока и задорный голосок большой синицы:
— Тут пою, тут пою, тут пою!..
Вспомнил про соседа случайно, как и в самом начале утра. В дупле затеялась возня, вырвалось наружу отчаянное верещание, потом из дыры с воплем выбросился скворец. И не искристо-черный да гладкий, а грустно-растрепанный и враз помельчавший. Он уселся на сушину и долго ворчал да выкрикивал чего-то своему обидчику. Попритих скворец, охорашивая перышки, когда подлетела к нему молчавшая до сих пор скворчиха. Она полопотала негромко ему что-то нежное, и тот лихо отряхнулся, весь заискрился, высвеченный проглянувшим сквозь лес солнцем.
Не обидчик, а хозяин трудно сработанного жилья, ловко вынырнул из дупла, повертелся на осине, покричал, видимо, свою подругу. Никто дятлу не отозвался, и никто не подлетел к осине. Опять полазил дятел вверх и вниз, недоверчиво покосился на умолкших скворцов и не вытерпел — порхнул с острова за разлив, где бело-розовым крутояром подымался спелый березняк.
И моргнуть я не успел, как скворец метнулся к дуплу, скользнул в дыру и не скоро высунул голову. Конечно, доволен дуплом, пусть только-только вытурил его оттуда дятел. Но раз оставил он жилье, успевай занимать, иначе останешься бездомным. Скворец длинно и мягко свистнул. Пока скворчиха перебирала лапками и готовилась спорхнуть с березовой сухостоины к осине — стало поздно. Возле дупла опять очутился дятел, гневно выкрикнул и смело ринулся в дыру. Снова внутри осины затрещало и заверещало, снова после недолгой возни дупло «выстрелило» растрепанного скворца. Будто бы и не приглаживал он давеча искристые перышки…
Не мне, человеку, вмешиваться в дела птичьи, а кого больше пожалеть — еще сложнее решить. Дятел для себя долбил нутро сырой осины, и лес ждет его будущих детей, ждет каждым деревом. Но и скворцы разве виноваты, если березу, где прошлой весной было у них свое дупло, порушил ветер и грохнулась она на край острова, разлетевшись на несколько трухлявых бревнышек. Одних пожалеешь — других обездолишь…
Дятел нервно покричал у дупла, помялся как бы в раздумье и не в березняк, а на ближнюю сухую березу слетел. Простукал ее вполдерева и полетели-посыпались щепки да труха на землю.
Время от времени он подавал голос, словно сам себя поторапливал. Чего же задумал дятел? Скворцы догадались раньше моего: они вдруг оживились, повеселели, и скворец обрадованно свистнул, а после затрепыхался всем телом и перышками — зашелся в пении. А дятел все глубже и глубже уходил в березу, становился все короче и короче. Вон и совсем один куцый хвост торчит, скоро и его не останется снаружи.
— Ай, молодец, парень! — растроганно похвалил я дятла, залил из котелка огнище и пересек разлив в узком месте. Надо было идти в леса, на песни птах и разморенно-затихающий тетеревиный ток.
…Когда снова забрел я на остров, то уже не застал дятла на березе. Высоко от земли в бересте желтело свежее дупло, в нем копошилась, выкидывая мусор, скворчиха, а ее скворец, трепыхая крылышками, выкатывал и выкатывал из искристого зоба песни родного леса. В нем одном сразу собрались десятки птиц, и каждая подавала свой голос — иволга и перепелка, кулики и коршун, селезень кряквы и тетерка, и всякая, всякая певчая мелочь…
Солнце скраснело за лесом и укатилось за край земли, а скворец пел у своего дома. Ни одного звука не принес он с собой из той стороны, где зимовал. Напрасно один мой знакомый как-то дожидался от них чужих песен. Он не услышал и огорчился, что скворцы глухи к заморским голосам.
— Ну как же так! — недоумевал знакомый. — Столько пролететь, столько жить до весны, столько всего услыхать и вернуться с тем же, с чем улетал.
— Квасной патриотизм! — отчаявшись, выругал он скворцов. — Домоседская глухота!
Знакомый не понимал упрямства скворцов и, раздраженный, перестал таскаться за мной…
Дятел не волновался больше за осиновое дупло, он раскатывал березняком свою песню и звал подругу. А мне слышалось уже не «быр-р-р», а многократное «дыр-р-р, дыр-р-р». Да разве обычные дырки продалбливал дятел? По соседству со своей осиной он «выстроил» еще один песенный дом.
Светлый день
Наутро по лесу с ночного заморозка, как в настуженной избе: дымно дышится и нежило-тихо. Онемелыми стволами туманятся березы, отчужденно-холодной зеленью выступают осины и щетинятся опушкой кусты боярки. Лес разобиделся на весну: согнала снега, поманила ростепелью и нате — снова стынь, снова сдерживай токанье сока, молодую дрожь тела.
Вон рассвет расплавил острые льдинки звезд и они скатились за увалы. Вон обтаяли мелкие тучки и меж ними растеклись извилисто-палевые ручьи. А лес молчит. Вот ягодкой костянкой закраснели капельки застывшего сока, вспотела береста на березах и обмокла кора осин, а лес не верит и не отзывается. Видать, не прощает апрелю-насмешнику колкие шутки-прибаутки. Не откликается лес…
И когда солнце во все глаза глянуло на обиженный лес, зелено-желтый пушок поднялся над пустошкой. Закружился вровень с березами и откровенно обрадовался: