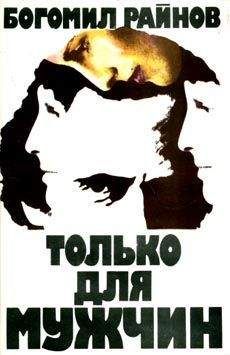Василий Юровских - Сыновний зов
Верить еще и потому, что давно нет в помине того кладбища, где с годами усыхал и обрастал травой-муравой могильный холмик, уже без креста и полевых цветов. Там ежегодно оживают веснами зерна и тяжелеют осенью хлебные колосья. Ветер с Макарьевской поскотины клонит их к Юровке, отступившей за последние годы дальше Одины, за лог Шумиху и ручей…
Мне бы шагать рядом со старушками и узнать, есть ли у них внуки, и порадоваться за них. И я тогда отыскал бы внуков и рассказал им о бабушках.
— Папа, клюет же, клюет! — напоминает мне сын. Он весь в азарте, однако не скрывает досады на прохожих и проезжих по дорожке над обрывом. В сыне постоянно оживает дедовская привычка — укрываться на рыбалке, его в будни окружает городское многолюдье и лязг железа. У сына жива бабушка, моя мама, и чтобы увидеться, ему стоит купить билет на автобус и через полтора часа он будет с ней…
Ему нужно все-навсего семьдесять пять копеек.
Горсть стручков
Не враз и признал я тебя, Горбатая полоса. От Осинового мыса не осталось и пенька, а там, где зелено холмились Хмелевой, Черемуховый и Афонин колки, — несуразно дыбятся кучи земли вперемежку с корнями, лесинами и потемневшей чащей. И самая высокая береза у росстани покинула свое вековое место. Поди, и она следом за нашей соседкой Парасковьей уехала к сыновьям в дымный и тесный город.
Только не грусть о раскоряженных колках нахлынула на меня. И не от яри солнечной стемнело в глазах. Стою я на меже и… нет, вроде бы, меня. Вижу белоголового парнишку в синей отстиранной рубахе, а с ним его старшего братишку Кольшу. Свернули они от росстани, галечки-бобы щекочут черные пятки. Пусто у них в корзинках, пусто у каждого в брюхе. Еще не скоро до ягод-груздей доберутся они, не скоро натакаются на лесную пищу. А рядом гороховище, поверху цвету полно — как есть метлячки белые и бордовые расселись, крылышками легко трепыхают. А понизу стручки крепко сжали зеленые губы и надуваются соками земли, повыше их плющатки длинные пирожками свисли.
Чего брательникам сговариваться-то?! Поозирались по сторонам и шасть в Осиновый мыс. У дуплистой осины в костяничник корзинки упрятали и сквозь огрубевшие волосатые дудки пиканика продрались на гороховище. Несмело на опушке приостановились и опять вокруг серыми глазами пошарили. Никого не видать, никого не слыхать. Лишь кузнечики-кобылки свои литовочки вострят да перепела друг друга окликают. Совсем как люди выговаривают: «Же-лу-блю, же-лу-блю»…
Ну, если перепелки желубят стручки, то парнишкам и подавно охота испробовать горох. Не пожелубить, а вместе с кожурками похрумать-пожевать. Хоть плющаток по горстке нарвать — не до выбора им. Однако манят и манят тугие стручки младшего братишку. Не слышит он, как сердито шепчет Кольша:
— Васька, куда лезешь? А то как увидают…
Васька склоняет белесую голову, только и пузырит ветерок синюю рубаху. Ему вон тот стручок поглянулся, тот еще толще выглянул и тут же спрятался. И он разнимает кучерявые гороховины, ищет зеленые, лукаво надутые губы. Да их в свою потную ладошку зажимает, а плющатки правой рукой в рот пихает.
До чего же тихо на поле-то… Солнышко улыбчиво-высокое, небо чистое и спокойное, двухвесельной лодкой парит коршун-мышеловка. И перепел нет-нет да и обрадует подружку: «Же-лу-блю, же-лу-блю». Разве поверится тут, что где-то тятька второе лето воюет, пушки бахают, осиным роем железо летает и смертью ужалить его, тятю, норовит…
Еще, еще бы во-о-он тот стручок сорвать…
Вижу я парнишку и не братовым, а своим голосом хочу закричать ему:
— Васька-а-а, беги-и-и!..
И не с Кольшей метнуться в Осиновый мыс — спасенье в лесу искать, а кинуться хочется беде навстречу. Она не коршуном гнусаво-крикучим нависла над светлыми вихрами Васьки, не тучей зачернела в небе…
Эх, Васька, Васька!.. Да расклонись же ты, стрельни глазами по Горбатой полосе!..
А кто там на полосе? Прямо гороховищем прет на карем жеребце широкоскулый парень. Молотит его пятками по бокам, левой рукой узду натянул и рвет губы жеребцу удилами, а правой железную цепь ухватил. Вдвое сложена она, и каждое звено толще большого пальца у Васькиной руки. Уж не так ли в давние века налетали на русичей-землепашцев дикие кочевники?..
И когда Кольша из лесу завопил — вскинул Васька голову. И тут же конь пеной да потом лицо ему обдал, а тот на вершине размахнул тяжелую цепь…
Где-то у сердца самого остановился зов к матери, словно ворот рубахи с единственной пуговицей сдавил худую шею. И… ничего больше не видал и не слыхал Васька. Каленым железом впились в голову звенья цепи, земля, как с испугу, вывернулась из-под пяток, ринулись перед глазами сверкающие метлячки по сторонам…
Опоздали руки прикрыться от железа. И пал Васька плашмя на горох. А пока память не ушла — запомнил: голова его большим стручком раскололась, лопнула, и не горошины, а красные брызги вырвались меж пальцев…
Очнулся Васька, когда солнышко за березовую дубраву у речки спряталось и небо печально постарело. Не роса свежила сплошную боль, а братова рубаха, смоченная в омуте. Голого Кольшу комарье кусало, да не от того он подвывал, Ваську до смерти жалко было… Тятька всю Расею спасает, а он за младшего брательника не мог постоять…
— У-у-у, Синяк, отольется тебе Васькина кровь! — грозил Кольша костлявым кулаком полосе, размазывал по лицу слезы и сопли.
…В потемках спустились братовья в Степахин лог. Тут у ключа ополоснул ему Кольша лицо и голову, тут их обоих и слихотило, хоть и блевать-то им было не с чего. А все же полегчало и побрели они на редкие и слабые огоньки села.
В избе не горела лампа, из темноты открытых дверей услыхали голос матери. Она уже выревелась и повторяла-вздрагивала:
— Захлестнул, ирод окаянный, моего сыночка, захлестнул… И некому да некуда пожаловаться-то-о-о.
Бабушка тихонько успокаивала ее и добавляла:
— Весь в дедушку Григорья. Тот, покойник, не к ночи помянутый, Онисью до полусмерти вожжами испонужал. А и всего-то она бадью с пойлом опрокинула…
Тем же вечером Ефимка Синяк хвастал на бригаде и просил награду у бригадира Захара Ивановича:
— Неуж екому-то караульщику лукошко гороха пожалеешь. Я-то живо отучу от Горбатой полосы всех юровских и морозовских.
Захар долго рассматривал обмотки на ногах, нещадно дымил самосадом. А когда цигарка обожгла бурые пальцы, он скрипнул зубами и огорошил Ефимку:
— Пошто же звереныш ты, Синяк? Зашибить бы тебя, да… — и не договорил, отвернулся и ходко пошел домашним заулком. Ефимка немного постоял полоротым, потом харкнул ему вслед: «Хы, Бателенок!» А молчавшие бабы слышали, как сердито звякали медали у Захара на слинявшей гимнастерке, и все смотрели и смотрели на пустой правый рукав. Он выпростался из-под ремня и серым бинтом болтался сбоку приземистой фигуры бригадира…