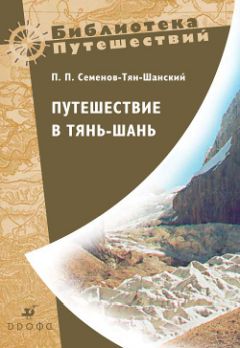Олдо Леопольд - Календарь песчаного графства
Цепочка следов ведет дальше и не выдает ни малейшего интереса как к возможной пище, так и к развлечениям или бедствиям других обитателей этих мест. И я гадаю, чем был озабочен мой скунс, что подняло его с постели. Можно ли приписать романтические побуждения этому упитанному субъекту, волочившему солидный животик по талому снегу? Но вот след исчезает под кучей старых бревен и не появляется с другой стороны. Я слышу звонкие шлепки капель внутри кучи стволов и говорю себе, что скунс их тоже слышит, а потом поворачиваюсь и иду домой, все еще гадая и размышляя.
Февраль
КРЕПКИЙ ДУБ
Человека, у которого нет своей фермы, подстерегают две опасности: твердая уверенность, будто завтраком его обеспечивают магазинные прилавки, и столь же твердая уверенность, будто источник тепла — это котельная.
Чтобы избежать первой опасности, надо завести огород — предпочтительно там, где нет магазинных прилавков, которые могли бы затемнить положение.
А чтобы избежать второй опасности, надо положить в очаг крепкое дубовое полено — предпочтительно там, где нет котельной, — и греть его жаром спину, пока за окнами качает деревья февральская вьюга. Если ты сам свалил свой собственный крепкий дуб, распилил его, расколол на поленья, притащил их домой и сложил штабелем, все это время задавая работу мысли, вот тогда ты поймешь, откуда берется тепло, и твоя память запечатлеет богатство подробностей, недоступных тем, кто проводит воскресенья в городе верхом на батарее центрального отопления.
Дуб, который сейчас пылает в моем очаге, вырос у обочины старой дороги переселенцев, там, где она взбирается по песчаному косогору. Свалив его, я измерил пень. Его поперечник равен 30 дюймам, и я насчитал
80 годовых колец, из чего следует, что у ростка, которым он был когда-то, первое кольцо появилось в 1865 году, в конце войны Севера с Югом. Но история нынешних дубовых ростков научила меня, что практически всякий дуб, прежде чем стать недоступным для кроличьих зубов, зиму за зимой теряет большую часть коры, а летом вновь дает побег. Собственно говоря, каждый выросший дуб обязан жизнью либо кроличьему недосмотру, либо отсутствию кроликов. Со временем какой-нибудь терпеливый ботаник выведет кривую укоренения дубовых сеянцев по годам и убедится, что каждые десять лет она дает пик, соответствующий самой низкой точке кривой десятилетнего цикла кроличьей популяции. (Именно этот процесс постоянной внутри- и межвидовой борьбы обеспечивает животным и растениям коллективное бессмертие.)
Таким образом, можно предположить, что в середине шестидесятых годов прошлого века, когда мой дуб начал наращивать ежегодные кольца, кролики в здешних краях почти перевелись, но что давший ему жизнь желудь упал на землю в предыдущем десятилетии, когда по косогору еще взбирались фургоны переселенцев, устремлявшихся к необжитым просторам северо-запада. Возможно, их тяжелые колеса обнажили косогор, и потому этот росток мог подставить свои первые листья солнцу. Ведь лишь из одного желудя на тысячу вырастал дубок, которому грозили зубы кроликов, — остальные, едва пробившись из земли, тут же гибли в море степных трав.
И на сердце становится тепло при мысли, что этот дубок не захлебнулся в нем и остался жить, чтобы восемьдесят лет собирать и хранить энергию июньского солнца. Вот этот-то солнечный свет благодаря посредничеству моих пилы и топора и высвобождается сейчас, согревая мое жилище и мой дух, пока вьюга обрушивается на стены и раз, и два, и восемьдесят раз. И при каждом порыве ветра клуб дыма над моей трубой свидетельствует всем и каждому, что солнце сияло не напрасно.
Моему псу совершенно не важно, откуда берется тепло, зато ему очень важно, чтобы оно было, и поскорее. И мою способность делать так, чтобы стало тепло, он считает магической, потому что, когда я встаю с постели в холодном предрассветном мраке и, поеживаясь, опускаюсь на колени перед очагом, чтобы развести огонь, он преспокойно втискивается между мной и уложенной на золе растопкой, а я вынужден просовывать руку с зажженной спичкой под его лапами. Наверное, такая вера и двигает горами.
Наращивать древесину и дальше этому дубу помешал удар молнии. Как-то ночью в июле нас всех разбудил оглушительный раскат грома, и мы сразу сообразили, что молния ударила где-то рядом, но так как ударила она все-таки не в нас, мы вскоре снова уснули. Человек все примеривает к себе, и в частности молнию.
Утром, поднимаясь на холм и радуясь вместе с рудбекией и степным клевером недавнему освежающему дождю, мы наткнулись на огромный пласт коры, сорванный с придорожного дуба. По стволу тянулась длинная, шириной в добрый фут спиральная полоса обнаженной древесины, еще не пожелтевшей от солнца. На следующий день листва на дубе пожухла, и мы поняли, что молния подарила нам целую поленницу отличных дров.
Гибель старого дерева огорчила нас, но мы знали, что на песках десятки стройных и крепких отпрысков по его примеру уже накапливают древесину.
Мы оставили погибшего патриарха еще год сохнуть на солнце, которое он больше не мог пить, а потом в погожий зимний день пришли к нему, и вскоре наточенная пила вгрызлась в могучий ствол над контрфорсами корней. Душистые опилки посыпались из-под ее зубьев, ложась на снег перед коленопреклоненными пильщиками. Мы чувствовали, что эти две кучки опилок — не просто измельченное дерево, но нечто большее, что это поперечный срез целого века, что наша пила движение за движением, десятилетие за десятилетием все глубже и глубже уходит в летопись целой жизни, записанной концентрическими годовыми кольцами крепкой дубовой древесины.
Всего десяток движений пилы — и уже пройдены те несколько лет, которые ферма принадлежит нам, те несколько лет, которые научили нас любить и беречь ее. И сразу же мы врезаемся в годы нашего предшественника — бутлегера, который ненавидел ферму, совсем истощил ее почву, сжег дом и постройки, швырнул ее снова на иждивение графства (с неуплаченными долгами в придачу) и затерялся среди безымянных безземельных тысяч, выброшенных великой экономической депрессией из привычного круговорота жизни. Тем не менее дуб нарастил для него прекрасную древесину — опилки его лет столь же душисты, крепки и розоваты, как и наших. У дуба нет симпатий и антипатий к людям.
Царствование бутлегера кончается где-то среди засух и пылевых бурь 1936, 1934, 1933 и 1930 годов. Дым дубовых поленьев, нагревавших его самогонный аппарат, и торфяной дым горящих болот, наверное, затемнял в те годы солнце, по штату рыскали поклонники азбучного сохранения окружающей среды, но опилки сыплются все такие же.