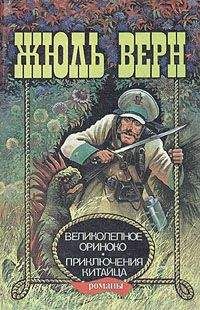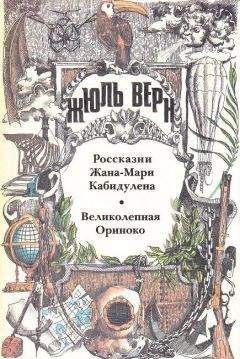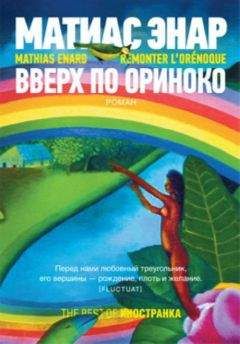Николай Пржевальский - Путешествие в Уссурийском крае. 1867-1869 гг.
Минут через десять после ухода солдат принесли несколько плетёных из травы цыновок, которые разостлали на полу и одну из них покрыли небольшим ковром; всё это было знаком, что начальник города согласился на свидание.
Спустя ещё немного времени в крепости вдруг раздалось пение - знак шествия начальника, которого несли четыре человека на деревянных носилках. Впереди шло несколько полицейских, которые своими длинными и узкими палочками или скорее линейками разгоняли народ; потом четыре мальчика, исполняющие должность прислужников; за ними ехал на плечах своих подчинённых сам начальник города и, наконец, человек десять солдат заключали шествие. Всё это пело или, лучше сказать, кричало во всю глотку, что, вероятно, у корейцев делается всегда, когда только куда-нибудь несут начальника. Сам он сидел сложа руки и совершенно неподвижно на деревянном кресле, приделанном к носилкам и покрытом тигровой шкурой.
Вся толпа, до сих пор шумная, лишь только увидала шествие, мигом отхлынула прочь и, образовав проход, почтительно стала по бокам дороги; несколько человек даже поверглись ниц.
Взойдя на ступеньки приёмного дома, носильщики опустили свои носилки. Тогда начальник встал с них, сделал несколько шагов внутрь здания и, поклонившись мне, просил сесть на тигровую шкуру, которую сняли с кресел и разостлали на цыковках.
Сам он довольно красивый пожилой человек 41 года, по фамилии Юнь-Хаб и в чине капитана, сатти по-корейски.
В одежде начальника не было никаких особенных знаков отличия. Как обыкновенно у корейцев, эта одежда состояла из белого верхнего платья, панталон, башмаков и шляпы с широкими полями.
Прежде чем сесть на ковер, разостланный рядом с тигровой шкурой, назначенной собственно для меня, Юнь-Хаб снял свои башмаки, которые взял и поставил в стороне один из находящихся при нём мальчиков.
В то же время возле нас положили бумагу, кисточку, тушь для писания и небольшой медный ящик, в котором, как я после узнал, хранится печать. Наконец, принесли ящик с табаком, чугунный горшок с горячими угольями для закуривания, и две трубки, которые тотчас же были наложены и закурены. Одну из них начальник взял себе, а другую предложил мне, но когда я отказался, потому что не курю, тогда эта трубка была передана переводчику-солдату, который, по моему приказанию, уселся рядом со мной.
Все же остальные присутствующие, даже адъютант начальника и много других корейцев, вероятно, самых важных обитателей города, стояли по бокам и сзади нас.
Наконец, когда мы уселись, Юнь-Хаб прежде всего обратился ко мне с вопросом: зачем я приехал к нему?
Желая найти какой-нибудь предлог, я отвечал, что приехал собственно для того, чтобы узнать, спокойно ли здесь на границе и не обижают ли его наши солдаты. На это получил ответ, что все спокойно, а обиды нет никакой.
Затем он спросил: сколько мне лет и как моя фамилия? То и другое велел записать своему адъютанту, который скоро записал цифру лет, но фамилию долго не мог выговорить и, наконец, изобразил слово, даже не похожее на неё по звукам. Однако чтобы отделаться, я утвердительно кивнул головой и в свою очередь спросил о возрасте и фамилии начальника.
Этот последний сначала принял меня за американца и долго не хотел верить тому, что я русский.
Затем разговор свёлся на войну, недавно бывшую у корейцев с французами, и Юнь-Хаб как истый патриот совершенно серьёзно уверял меня, что эта война теперь уже кончилась полным торжеством корейцев, которые, побили несколько тысяч врагов, а сами потеряли за всё время только шесть человек.
Потом принесли географический атлас корейской работы, и Юнь-Хаб, желая блеснуть своей учёностью, начал показывать мне части света и различные государства, называя их по именам. Но, как видно, он имел весьма скудные географические сведения, потому что часто сбивался в названиях и справлялся в тексте, приложенном к каждой карте. Я же нарочно притворился ничего не знающим, а потому корейский географ мог врать не смущаясь. Все карты были самой топорной работы, и хотя очертания некоторых стран нанесены довольно верно, но в то же время попадались страшно грубые ошибки. Так, например, полуостров передней Индии урезан до половины, а на месте нашей Камы показана какая-то река без истока и устья вроде длинного, узкого озера.
Перебирая одно за другим различные государства и часто невообразимо искажая их названия, Юнь-Хаб, наконец, добрался до Европы, где тотчас же отыскал и показал Францию с Англией. Потом, пропустив всё остальное, перешёл к России, где также показал Петербург, Москву и, не знаю почему именно, Уральские горы. Показания его относительно России оказались настолько обширны, что он даже знал о сожжении Москвы французами. Когда эту фразу мой переводчик никак не мог понять и передать, то Юнь-Хаб взял пеплу из горшка, в котором закуривают трубки, положил на то место карты, где обозначена Москва и сказал: «французы».
Затем разговор перешёл опять на Корею. Здесь начальник выказал большую осторожность, даже подозрительность и давал только самые уклончивые ответы. Когда я спрашивал у него, сколько в Кыген-Пу жителей? далеко ли отсюда до корейской столицы? много ли у них войска? - то на всё это получил один и тот же ответ: «много».
На вопрос: почему корейцы не пускают в свой город русских и не ведут с ними торговли? Юнь-Хаб отвечал, что этого не хочет их царь, за нарушение приказания которого без дальнейших рассуждений отправят на тот свет. При этом он наивно просил передать нашим властям, чтобы выдали обратно всех переселившихся к нам корейцев, и он тотчас же прикажет всем им отрезать головы.
Между тем принесли для меня угощение, состоявшее иэ больших, довольно вкусных груш, чищеных кедровых орехов и каких-то пряников.
Во время еды всего этого начальник, оказавшийся не менее любопытным, чем и его подчиненные, рассматривал бывшие со мной вещи: штуцер, револьвер и подзорную трубу. Всё это он, вероятно, видел ещё прежде, потому что знал, как обращаться с револьвером и подзорной трубой.
Между тем бывшие со мной солдаты беседовали в стороне, как умели, с корейцами, даже боролись с ними и показывали разные гимнастические фокусы. Всё это очень нравилось окружавшей их толпе и, наконец, когда один из солдат проплясал в присядку, то это привело в такой восторг корейцев, что они решились даже доложить о подобной потехе своему начальнику.
Последний также пожелал видеть пляску, а потому солдат еще раз проплясал перед нами к полному удовольствию всех присутствующих и самого Юнь-Хаба.
В это время привели на суд трёх виновных, уличённых в покраже коровы.