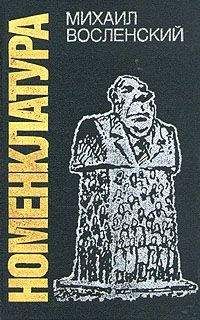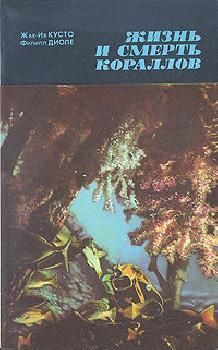Римантас Будрис - Нежнорогий возвращается в лес
Вспомнилось вороне летнее время. И далекие зеленые поля, излучина реки, где такой славный песчаный берег, совсем желтый, а какие отмели, островки… Вспомнилась вороне и уютная рощица в долине реки. Там, на высокой сосне, оставалось ее милое гнездо.
Дни были солнечные. Птицы, бабочки, мошкара — все радовались и ликовали. Рыба в воде и та играла. Как ярко и прекрасно пестрели кругом цветы. И ворона тогда ничуть не ощущала серости своего вороньего мира. Она захлебывалась от счастья, как любая птица, если у нее есть гнездо, а в гнезде — малыши; как всякая птица, у которой вдоволь и повседневных хлопот, и радостей. И конечно, воронята никак не казались ей серыми. Правда, оперение у них было черное с серым, как и положено вороньим детишкам. Но они были чудо как хороши собой, настоящие красавцы, вечно голодные, постоянно требующие есть. А лето кормило всех досыта…
Ворона отлично помнит те дни, когда она вместе со всем своим шумливым семейством летала на речку, на отмели и острова. Река всегда щедра. Сколько угодно изумительной снеди на прогретых отмелях, где даже вороне по колено. Насобираешь ракушек. Потом коли их в свое удовольствие: хлоп об камни и выклевывай слизняка. А как красива чистая, радужная ракушка на берегу, не налюбуешься, какая радость поиграть с ней… Разве серое у нее, у вороны, сердце, если так страстно она обожает все блестящее, белое, сверкающее, серебряное!
Целое лето радовалась ворона ясному солнышку, и никто ей не говорил таких обидных слов про серость и серое сердце, не намекал, что она всего-навсего неопрятная серая птица.
Наступила пора отлета. В поле сбивались в стаи грачи. Табунились и вороны. Одни улетят, другие останутся на их месте. Пожалуют в эти места вороны из северных краев. И все они вместе с галками станут зимовать скопом, облюбуют какой-нибудь уютный городской парк и заживут.
Это было красивейшее время пустеющих полей, летучих шелковых паутинок, золотое время, когда начинали желтеть леса. И вороне представилось, что она — золотистая птица этой пышной поры, что и она так же прекрасна, как золотая осень.
Ворона не улетела. Покаркала, повертелась над полями и осталась дома. Потом прибилась к другой стае и подалась на зимовье в город. «Неужели от городского житья можно так вылинять?» — удивлялась ворона. Тяжело у нее на сердце. Неужели город делает птиц глупее? Вроде этих бессовестных забияк-воробьев…
Есть в оттепели привкус талого снега. В ней таится дыхание весны. Пусть брызжет из-под колес жидкая грязь вперемешку со снегом, пусть нигде еще не оголился ни единый клочок оттаявшей земли, пусть зима еще и за половину не перевалила, все равно в мглистой влаге серого дня явственно чувствуешь веяние весны.
Серая птица неподвижна — трудно думается. Грустно вороне, тяжко. Даже люди часто грустят, когда наступает серая оттепель. Но где-то дремлет предвкушение весны. Видимо, в сердце. И ворона с серого столба громко выкрикнула:
— Нет! Не серое у меня сердце!
Получилось не хриплое карканье, какое обычно знают за вороной. Вышло что-то вроде пения. Вам, должно быть, доводилось его слышать. Ранней весной серые вороны поодиночке или парами засядут в голых ветвях кленов, на высоких тополях и — поют. Они не каркают, а как бы постанывают, умильно, ласково. Это у них такой весенний голос. Вскоре после того как вороны запоют, распадаются их несметные полчища, воронье разбивается на пары, и разлетается каждое семейство само по себе.
По серой улице идут отец с сыном. Несут зеленую елку домой, наряжать для зимнего праздника. Отец несет, а сынишка придерживает за макушку, помогает. А тут пропела серая ворона.
— Папа! Что сказала ворона? Почему не «кар-кар», а так, по-красивому?
— Такая у вороны песня.
— Разве в такой скучный день поют?
— Вороны — те поют. Должно быть, видят, а то и вспоминают что-нибудь очень яркое и красивое.
Ворона слышала их слова и догадалась: воробьи просто обманщики! Кто поет, кто может пропеть хоть какую-нибудь песню, у того не может оказаться серое сердце. Мал мальчуган, а знает: «По-красивому…»
Ворона снова запела, гортанно и отрывисто. Потом понеслась догонять свою стаю. Весело махала крыльями в этот серый день оттепели. И чувствовала, что никогда не заведется серость в ее душе.
Январь. День, когда звенела гладь залива
Наконец настала зима воды. Стужа навела крепкий мост — первый лед. Кинешь камушек — звон разнесется над заливом, а камушек далеко улетит по скользкому льду.
Море ворчит. Море лениво вздыхает, темно-зеленое, подернутое сединой, вечное море. Залив — тот перестал быть водой и стал широким ледяным полем.
Сегодня неописуемой синевы небо. Далеко виден чистый простор. Искрящаяся на солнце белизна.
Черный дрозд весело скачет в клетке и радуется: зима в полном разгаре, а ноги не мерзнут. И лететь никуда не надо. Повезло ему!
Зяблик тоже не тоскует по снегу. Видит его из окна — и довольно с него. Мы беседуем. Я выкладываю новости: куда дятел увел команду поползней и синиц, каково шумелось сегодня соснам в бору… Дрозд, тоже одомашненный, слушает, иногда и сам встревает в разговор.
Втроем в тесном домишке уютно. Будь я один, пожалуй, заскучал бы. Даже нарядная снежная белизна порой наводит тоску. А теперь нас трое — зяблик, дрозд и я. Верная, дружная тройка — один за всех, все за одного. Так хоть до следующей осени продержаться можно.
Солнечный день за окном. Дрозд и зяблик провожают меня в дорогу. Мне надо в дюны и на побережье. Им бы, конечно, больше хотелось, чтобы я никуда не уходил, а целыми днями болтал с ними. Но у меня как-никак работа, и мои приятели это понимают.
Лежала ровная вода. Теперь — ровный лед. Такой же просторный, как прежде водная гладь. За ней видна полоска дальнего берега. Сегодня она выделяется очень резко. Деревья повыше можно разглядеть каждое в отдельности. Значит, воздух прозрачен, спокоен. Но ненадолго. Ясность, хорошая видимость — это к ветру. В тихие сырые дни противоположный берег почти не виден.
В дюнах снега порядочно. Вершины дюн оголены, обдуты ветром. Но во впадинках, ложбинках между дюн увязаешь в снегу выше колен. А песок и сейчас странствует. С обнаженных макушек сгоняет его ветер. И сбегает песок по снегу темными, буроватыми ленточками.
Бойкие заячьи следы разбегаются во все стороны. Тут, в дюнах, зайцы держатся по-хозяйски, не допускают кабанов. Кабан, вижу, прогуливался только один. Протопал копытами по дюне и опять убрался в густой лес соснового молодняка, за дюны. Ничего не добыть кабану в песках. Другое дело — камышовые заросли на заливе. И то, если земля не промерзла. Пока можно, кабаны роют себе ароматные коренья и с наслаждением чавкают в тростниках. А если снег припудрит непромерзшую землю и топкие закраины камышей до весны не закроются ледяной коркой, лучшей зимы кабанам и не надо. Чем же занимаются по ночам зайцы в дюнах — это известно одним только дюнам да самим зайчишкам.