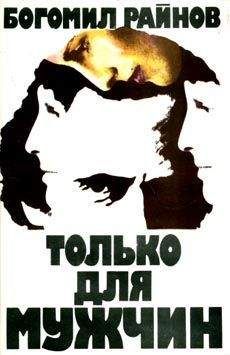Василий Юровских - Сыновний зов
— Ого, веско! С полпуда, поди! — прикинул брат свою ношу и тугим узлом перехватил устье мешка.
Мне досталось поменьше: Кольша давно привык раскладывать тяжести посильно каждому, и по-старшинству, подражая тяте, взваливал на себя самую большую часть груза. Однажды я заупрямился и пустился в рев, но брат отучил меня распускать нюни. Он натузил мне мешок мороженой картошкой под самую завязку, помог натянуть лямки, только встать на ноги с мешком я не смог. Тем мешком и повытянуло из меня лишнее самолюбие, и я стал подчиняться Кольше не просто безропотно, а с доверием и уважением, как главе дома после отца. Пусть и постарше он меня всего на два года, а сколько мужицкой работы досталось ему в первый черед, а не нам с сестрой Нюркой…
— У меня тоже веско! — похвалился и я, расправляя крыльца под мешком.
— Ага! — серьезно, без усмешки согласился брат и не скрыл радости. — А здорово, Васька! Заместо кобыляка притащим седни хлебного. Грузди-то из Отищевской гряды никуда не денутся, вместе с Нюркой и сходим. Ага?
— Ага! — живо откликнулся я и, стараясь не отстать от брата, отбивался на ходу таловой веткой от целого роя настырных паутов.
Не терпелось поскорей дотопать до дому и показать свои мешки маме с Нюркой. Только мамы-то все равно нет дома — раным-рано уехала на покос грести и метать сено для детдома, а сестра с бабушкой пасут коров у Юровки на поскотине. А солнце чуть-чуть перевалило за полудни, жаром загнало комарье в тень лесов и болота, в густые травы на лесных еланях. Одни зеленоголовые пауты наседают на нас, но мы на привале не боимся их: сидим возле двух наших осин у дороги и ловим паутов живьем, чтобы отпустить потом с тонкой сухой травинкой в брюхе. Этак и время скоротать можно незаметно, и есть не так хочется — в село нам заходить с мешками днем как-то боязно. Хоть и трава в них, да вдруг кто-нибудь досмотреть вздумает…
— Жабрей, — угадала мама и пояснила: — Пикульником еще зовется, на парах хлеба раньше засорял, а ныне везде расплодился, по всем полям его полным-полно.
— Колючий и с розовыми цветочками? — спросила сестра.
— Он, он! И не токо сорняк, ядовитый он. Если не умеючи, конечно, его семена поесть. У лошадей трясучка бывает после жабрея. А у нас в Песках, на родине-то моей, тятин сосед Алексей Изосимович цветками жабрея сына лечил от чахотки. Чудышко же был Изосимович, — вздохнула мама. — С сыном Илюхой по снегу охотились они на зайцев, он возьми и окрови из дробовика зайца, а тот и потянул в Ульянково болото. Кусты да кочкарник тамо — быка не враз увидишь, а не то что дикошарого зайчишку. Алексею жалко упускать дичь, и он Илюхе приказал разуться. Скинул парень пимы и суметами в одних носках побежал за подранком.
— Настиг? — в один голос поинтересовались мы с братом.
— Настиг-то настиг, да захворал Илюха чахоткой. Всем перелечил его Алексей Изосимович, да поздно догадались, что за болезнь… Исчах парень.
Мы пригорюнились вместе с мамой о ее соседе Илюхе, что умер совсем молодым парнем из-за раненого зайца, помолчали и завздыхали уже о своем:
— Зря и тащили жабрей…
— Как зря? — возразила мама. — Сколько помню голодных годов, всегда мы ели из жабрея лепешки. Подсушу на поду в печи, смелете на жерновах, и стряпня будет. Вкусные лепешки, только горячие нельзя есть и попить сразу после еды нельзя. Отнимаются то руки, то ноги, а то и спина не сгибается.
…Нет, не чета жабрей кобыляку! Не кисло-противной зеленью, а сытным и хлебным духом напахивает из печи. Смотрим через брус, нюхаем и в уме поторапливаем маму: скорей, скорей бы она позвала за стол!
— А ну, слазьте с полатей, ребята!
Теплых и толстых лепешек в плетеной хлебнице гора горой, а муки еще немало в сеельнице. Да еще поделилась мама жабреем с Парасковьей Сергеевной — матерью моего дружка Ваньки. Его сестра Зинка и прибежала к нам, когда мы стояли в очередь у рукомойника под верхним голбцем. Зинка села на лавку и без передышки выпалила:
— А нас мама уж накормила лепешками! Ух и скусны-ые, и сытные страсть!
— Отведай и наших, Зинаида Михайловна! — шутливо взвеличала ее мама, и я насторожился, однако она не добавила «невестушка», пожалела, видать, меня. А то ни в школе, ни на улице нет проходу мне из-за Зинки, и приходится украдкой играть нам с ней черепками, насобиранными на огороде. Когда подружился с ее братом Ванькой, а моложе он меня на целых пять лет, вовсе редко стали дразнить Зинкиным женихом…
— Ой, я и дома, тетя Варвара, объелась! — затараторила Зинка и вдруг стукнулась беловолосой головой о простенок, выкатила синие глаза, онемела с открытым ртом. Я испугался за Зинку и чуть не пролил молоко из крынки, но мама всех нас успокоила, словно ничего и не случилось:
— Отойдет, отойдет наша невестушка! С жабрея Зину парализовало, само собой пройдет… А вы, если по грузди собрались, то не ешьте покуда лепешки, разве что по одной-две. В лесу поедите, ладно?
— Ладно! — согласились мы, и пока управлялись со своими лепешками, припивая холодным молоком, к Зинке вернулась речь, ожили руки и ноги. Она заохала и начала пересказывать вчерашние деревенские новости. Мать ее собирала молоко в нашем краю и узнавала обо всем самая первая.
Зинка засобиралась с нами по грузди, да мама отговорила мою подружку:
— Не ходи, Зина, тебе нельзя после жабрея много двигаться. Я же сказывала вам, как его есть. Опять отнимутся в поле ноги, лучше дома сегодня оставайся, в огороде у себя пополешься. Вы, ребята, смотрите — не ешьте лепешки раньше времени.
…Терпения нашего хватило на два волока от Юровки до избушки у болота Трохалева. Пока все втроем хохотали над Зинкой, пока мы с Кольшей гонялись за серым зайчонком до первых ракитников у болота, есть не хотелось. А как замолчали — глаза невольно косились не на солнце, а на Нюркину корзинку, куда в белой тряпице мама положила нам подорожники. И не жарко покуда, но губы то и дело облизываешь языком, и даже донник по обочинам дороги пахнет лепешками.
— Нюрка, знаешь чо? — не вытерпел Кольша.
— Чо?
— До Отищева всего и осталось пройти Трохалевскую степь. Давайте вон у колодчика отдохнем и с водой наедимся. А то, поди, пересохло в тятином копанце у Отищева, придется всухомятку обедать.
— Давайте, — сразу согласилась сестра и повернула под высокие корявые березы, где прятался от солнца весь день лесной колодчик с таловым плетнем вместо сруба. Место тут и сухое, но вода в колодце не убывает с весны до осени и не застаивается — не протухает душными яйцами, как по другим, даже более глубоким и со срубами. Черпали воду прямо кружками, и опростали Нюркину корзину незаметно.
После еды не прошли и последние леса перед Трохалевской степью, как остановился средь дороги Кольша и выронил пустое ведро, за что-то запнулась и неподвижно растянулась на конотопе сестра, сперва присел, а потом свалился на траву и я. Ноги и руки не слушались, спина одеревенела, и язык во рту отяжелел — не поднять, не повернуть…