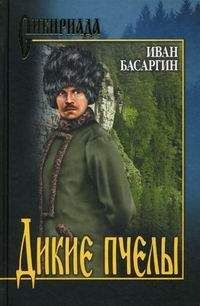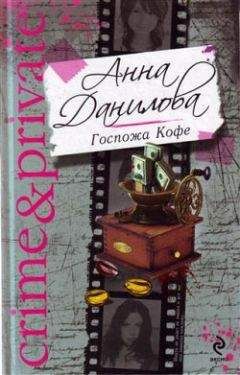Иван Басаргин - В горах Тигровых
— В пост? — снова вырвалось у Ефима.
— Знамо, в пост, как царь, так и я.
— Врешь!
— Вру, то дорого не беру.
— Никита, сказывай всем, чего же одному-то! — кричали нетерпеливые.
— А еще похабнее наш патриарх, — шептал Ефиму Никита — Я стоял у его покоев, так он понавел туда разного цыганья, заставил всех раздеться, а потом ходил средь голых баб и за сиськи дергал. Другое-то уже не могет, так хоть так поигрался.
— Врешь.
— Вру, тогда смотри, — Никита расстегнул мундир, выхватил нательный крест и смачно его поцеловал.
— Вот якри тя в нос, что деется.
— Везде одна шайка-лейка. А вы тут за миражу людей в костер.
— Не верю!
— Отсохни у меня язык, ежли что.
Ефим скатился с паперти, начал что-то шептать друзьям. И пошло. Мужики ругались, другие хохотали, бабы визжали. А когда сказанное Никитой дошло до последних, то выходило, что царь сам голяком по Питеру бегал, по иконам стрелял, баб черных к себе водил, даже срам с бабами в церкви творил.
И те, кто стоял стенка на стенку, начали смешиваться, переговариваться.
— Анафема! — снова пьяно завопил дьяк.
— Цыц, паскуда, дай послухать доброго человека. И царица у солдат спала. Эко повезло Никите, саму царицу тискал. А ить сказывали, что после одной ночи с солдатом она приказывала убить солдата. Глянуть бы на нее одним глазом, там можно и помирать.
— Дурак, то Катька убивала солдат, а энта добрее.
— Цари тожить люди, а у цариц все такое же, как у наших баб. Однако приятно…
— Царица рази баба?
— А кто же? Такая же баба, однако своя привышнее.
В толпе смешки, нервное напряжение спадало. Пермяки народ отходчивый, долго зла не помнят. Даже после драки могут легко помириться.
Урядник понял, что дело повернулось, не в его пользу, решил вмешаться, расталкивая людей, закричал:
— Анафема! Зубин, разводи костер! Колдуна в огонь! А навстречу Никита. Остановились друг против друга, Никита усмехнулся и сказал:
— Ваше благородие, вы чего полошите народ? Это дело церковное, а не гражданское. И другое: как вы стоите перед георгиевским кавалером? Устав забыли? Молчать! Мне сам царь-государь первым честь отдавал, пошто же ты не делаешь того же? Во фрунт!
Урядник опешил, откачнулся назад. Неумело вскинул руку к козырьку фуражки, левую положил на саблю, расправил грудь, правда впалую, и пошел мимо Никиты строевым шагом, люди расступились.
— Ножку!! Ножку тяни! Брюхо подбери! Грудь держи колесом!
Сельчане и рты раскрыли, глаза навыкат. Отдать честь мужику, такого еще на их веку не было. Тишина, строевой шаг урядника — и враз хохот, улюлюканье, победные крики, свист мальчишек. Урядник сбился с ноги, затрусил домой. Оглянулся, погрозил кулаком толпе, юркнул в калитку.
Зубин и Мякинин не стали ждать развязки, мышатами сиганули за угол церкви, убежали. Буря пронеслась. Никита отвел бурю. Шагнул к брату, обнялись, по-мужицки расцеловались. Никита спросил:
— Скажи по чести, сожгли бы аль только попугали?
— Сожгли бы, — выдохнул Феодосий — Сколько бы ни махались поленьями, а нас бы скрутили. А нет, то кто-то бы почил в бозе.
— Свиделись. Веди в дом, братуха. Соскучился по дому — спасу нет.
Обрел дар речи и Митяй, прокричал:
— Дурни, кого хотели спалить? Митяя? А вот вам, — показал кукиш толпе.
Сельчане облегченно захохотали. И верно, дурни — Митяя могли бы сжечь под запарку.
За Феодосием пошли друзья. Ефим хотел было увернуться, но Марфа схватила его, как котенка, за шиворот и повела на подворье Силовых. Вошли во двор. Марфа подвела Ефима к Феодосию, рыкнула:
— Пади в ноги! В ноги, пес бузой! Слезно проси прощения за облыжность и недоумие.
— Да уж каюсь, но ить Феодосий… Он отрекся от бога!
— Молчи! Веру у тебя в бога никто не отнял, но за-ради нее друга в огонь, можно и самому там очутиться! — гремела Марфа — Сжег бы наших, то и тебе бы не жить.
— То так, от бога можно отречься, но вслух об этом говорить нельзя, знай это, брат. Почти каждый солдат ненавидит царя, но об этом тоже молчит. Даже близкому другу не говорит.
— Отпусти ты его, Марфа, оба мы с ним хороши, — устало проговорил Феодосий — Садись, Ефим, прощен, чего же тебе еще надо! Садись же!
— Да уж сяду, но вы простите меня, бога ради! Все это от лукавого.
Сели на бревна. Никита заговорил:
— Прошел я много пешки, много видел, не сладка ваша жизнь, но и солдатская не лучше. Врал я Ефиму, что царю брат и сват. Дружками у нас были: мордобой, шпицрутены. Но знал, что таким наговором на царя можно остановить народ от драки. Но что бы ни было — солдат с солдатом редко дерется. До драк ли, когда день и ночь на взводе. А потом войны, а потом раны на теле, в душе. И вам не драться надо, а дружить, чтобы легче было беды от себя отводить. Где Аксинья? — вдруг спросил Никита.
— Умерла. Три сына и дочь после себя оставила. Трефила знал ли? Богач. Он-то и хотел нас сжечь, — ответил Феодосий.
— С чего же он разбогател?
— С разбоя, купцов с Фомой Мякининым грабили на Казанском тракте. Едва от каторги открутились. Деньги награбленные спасли. Потом, когда был картофельный бунт, они с башкирцами грабили шадринцев. Тоже прибавка к богатству. Солдаты тоже усмиряли.
— Был и я на усмирении. Жуткое дело. Когда воевал перса, турка, там все было ясно — это мой враг, он хочет убить меня. А мужик разве мне враг? В первые годы службы был на усмирении декабристов. Это офицеры. Хорошие люди. Хотели сковырнуть царя, дать послабление Солдату и мужику, но не вышло. Один проморгал, носом прохлюпал, другой струсил. Нас не позвали. Мужиков не К кликнули. А тут нас под присягу, и делу конец. Присяга не баба — ей не изменишь, а изменил, то голову на плаху аль прогонят через палки, все одно смерть. От палок нашего брата погинуло тыщи, кто выживал, тот умом трекался. Что говорить, в России сладко живется тем, кто правит.
— Как сам жить будешь?
— Дали пенсию. Женюсь. Земли прикуплю и буду жить тихонько, доживать век.
— Ну, други, по домам ходите, кормить будем служивого, хоть репой, да накормим, — отправил домой друзей Феодосий. Нехотя разошлись.
После ужина Феодосий рассказал о своей мечте. Никита пристально посмотрел на брата, пожал плечами, ответил:
— Не след о таком думать. Бывал ведь я и в Сибири. Каторжных провожал. Холоднючая страна, дикая страна. Но ежли честно, то воли там больше. Народ не так забит. Но как же свою землю-то бросить? Здесь могилы наших отцов, то да се.
— А ежли бы тебя убили на войне, то рази бы знали мы, где твоя могила?
— Нет, не знали бы. Но не верю я в то Беловодье. Нет его. Ежли бы было оно, то люд бы знал.