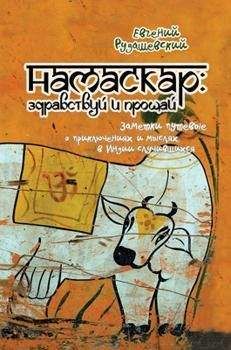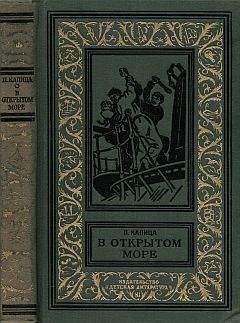Евгений Рудашевский - Здравствуй, брат мой Бзоу
Дельфин отплыл от братьев. Амза бросил ему небольшого осётра. Афалина заинтересовался подарком, но вместо того, чтобы съесть его, начал им играть: неспешно подталкивал носом, топил, затем поднимал к поверхности. Осётр вернулся к Амзе. Юноша рассмеялся.
— Значит, не голодный, — Даут приподнял плечи.
Амза, стоя в воде, опять кинул рыбу; теперь подальше. Всё повторилось.
Дельфин оставался беззвучным; отплывал дальше от берега. Возвращался. Играл осётром. Порой переворачивался, вскручивал хвостом ворчащие буруны; иногда же оставлял поверхности лишь загнутый серпом спинной плавник; застывал, открывая ды́хало.
Амза был счастлив; постоянная улыбка утомила лицо. Найти дельфина на берегу, трогать его, затем спасать — это было необычным, радостным делом. Амза представлял, какими словами и жестами расскажет обо всём родителям.
— Не понимаю, зачем он выбрался на берег? — промолвил Даут.
— Не знаю… Наверное, случайно.
Старик Ахра, наблюдавший за братьями, скрутил папироску; скрепил шов языком и закурил. Дым медленно опускался из его носа, путался в седых усах, затем малыми волнами расплывался по сторонам.
Подаренная афалине рыба, наконец, утонула.
— Амза, пора идти. Мама будет ругать.
— Да… Но ведь он не уплывает. Когда ещё удастся так постоять?
— Он может тут до вечера плавать… Нам пора. Пошли!
Даут вышел на берег; опустившись на гальку, стал вытирать ноги, затем одел чувяки. Амза вздохнул; возвращался он спиной, чтобы дольше наблюдать за диковинным другом. Дельфин, заметив, что его покидают, замер. Всё также беззвучно смотрел на Амзу; нырнул и вскоре показался с потрёпанным осётром на носу.
Амза угрюмо подошёл к брату; не просушивая ног, обулся. На лбу выказал морщины. Движения юноши были резкими, выдававшими раздражение.
— Ладно тебе, не расстраивайся, — улыбнулся Даут.
Дельфин подкидывал рыбу; ловил её, окунал; смотрел на уходивших спасителей. Ахра остался курить — уже вторую папиросу.
Едва братья вышли на дорогу, Амза подпрыгнул:
— Да!
— Что?
— Мы видели дельфина! — почти крикнул юноша; ухмыльнулся, потом вовсе рассмеялся. — Кто ещё видел дельфина так близко, а? Никто! А мы его даже трогали, гладили! Ведь это… ноздрю на макушке видел?
— Ноздрю на макушке?
— Именно! Надо будет всем рассказать!
Амза, довольный случившимся, бодро раскидывал руки; палкой обдирал крапиву, отпинывал камни.
Подул ветер. Возле солнца скромным сопровождением проявились худые облака. От мыса чаще взлетали чайки — они торопились к рыбачившим вдалеке баркасам. Во дворе Батала Абиджа, соседа семьи Кагуа, залаяли псы.
Утомлённая зимней влагой, зелень, наконец, окрепла и теперь ширилась пахнущими соцветиями. Вдоль заборов растягивались десятки оттенков красного, жёлтого, синего — словно бы художник, готовившийся раскрасить штакетники, разложил себе в удобство ароматную палитру. Во дворах зацвела неприметная шелковица.
Воздух, ещё не разгорячённый, был прозрачен.
Ближние горы, густые и взлохмаченные, казались состриженной с гигантских овец шерстью — зелёной, с чёрными жилками теней. Лишь редкие холмы нарушали этот образ своими залысинами земляных обвалов. Над ними, взмятое и осветлённое, застыло облако. Дальше, к северу, дремали горы Кавказа — одна гряда за другой; чем дальше и выше стояла гора, тем бледнее был её образ. В вечернем свете они обращались тёмными недвижными тучами.
— Отец не рассказывал о своём знакомстве с дельфинами? — спросила за ужином Хибла.
— Нет, — Амза удивлённо посмотрел на Валеру; тот ухмыльнулся, однако, ничего не сказал.
— Дай мне ахул, — попросил Даут.
— Вот, — Амза протянул брату ковшик.
— Не удивительно. Оно было не очень приятным, правда? — Хибла обратилась к Валере; тот вновь лишь ухмыльнулся. — Отец тогда работал на морзверзаводе в Новороссийске.
— Хорошее название, — заметила баба Тина.
— Было это в шестьдесят третьем…
— Шестьдесят первом, — поправил Валера.
— Соли не хватает, — прошептал Даут.
— Они тогда рыбу ловили. И дельфинов.
— Как это?! — воскликнул Амза; перестал улыбаться, отказался есть и лишь смотрел на мать.
— Да. Тогда это было всюду. Причём — на высшем уровне! С них изготовляли шкуры и… что-то, вроде рыбьего жира.
Хибла взглянула на мужа, надеясь, что тот закончит или поправит её рассказ; однако Валера молча ел варёную кефаль, запивал вином и, кажется, не слушал того, что говорила жена.
— Выходили на лодках; на катерах. Окружали дельфинов неводом и толкали к берегу. Так вытаскивали из моря — по несколько тысяч! Те ещё были живы; всех сразу не могли обработать, так что большинство сутками лежали на месте и… умирали.
— Не представляешь, какого это! — произнёс Валера; провёл ладонью по лысеющей голове; отодвинул пустую тарелку. — Я тогда с прочими рыбаками жил над морем. Это было хуже любой пытки! Они ведь там издыхали под солнцем и целыми днями, без перерыва кричали. Тысячи дельфинов! Весь берег был покрыт их серыми тушами. Шум — хуже шахтенного!
— Это… ужасно! — Амза качнул головой.
— Ещё бы! Мы не высыпались; болела голова, до драк бывало…
— Он не о том, — улыбнулась баба Тина.
Валера умолк; закурил; сложил на животе ладони и уныло посмотрел на курятник.
Уже вторая неделя, как они перешли из апацхи — за стол во дворе. Ночи были прохладными, но приятными из-за пришедшей сухости. На тёмно-фиолетовое небо выпадало всё больше звёзд.
— Баська! — вскрикнул Амза. — Уйди!
Пёс поставил передние лапы к юноше на колени, крутил хвостом и жадно наблюдал за тем, как ломти кефали на вилке поднимаются к человеческому рту. Амза рассмеялся подобному вниманию. Поворчав, угостил Басю.
Засыпая, Амза думал о дельфине. «Интересно, почему он молчал. Те дельфины, которых ловил отец, кричали, а этот ничего не сказал. Странный. Может, немой?» Потом Амза обеспокоился, вообразив, как после его ухода кто-то ещё, например Мзауч, мог спуститься к ослабленному зверю: так же трогал его, предлагал рыбу. Юноше хотелось быть единственным.
Следующим днём семейство Кагуа выехало на арху[2]. Работа ожидалась нетрудная, но скучная. Выделенный им участок граничил только с грузинскими пашнями — говорить на обеденном отдыхе будет не с кем.
Пахло пробудившейся землёй. Валера любил это запах. Выйдя из машины, он шире вдохнул; потом, склонившись, положил на мягкую траву ладонь, словно бы прислушивался к сердцебиению поля. В небе пролетел тёмно-бурый канюк. Заворачивая к югу, он громко и гнусаво замяукал.