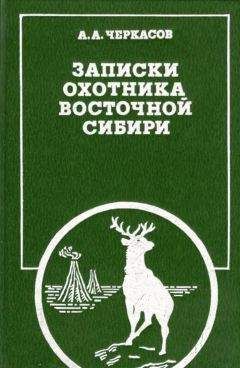Александр Черкасов - Из записок сибирского охотника
Как смотрят иногда на колею этого экипажа, так я, скрепя сердце, пошел на тот пункт, где пробежали сохатые, и глазам моим представились ясные знаки громадных копыт по застывшему моху. След был так еще свеж, что в его оттисках некоторые частицы моха и мелкого ягодничка, по силе растительной упругости, на моих глазах поднимались кверху и шевелились в протоптанных копытами лунках. Эта свежесть еще более усиливала грустное впечатление и снова напоминала ту вьющуюся пыль или пузырьки грязи, которые так тяжело знакомы вам по колее все того же, только что укатившегося, дорогого сердцу экипажа.
Кроме такого сопоставления, при таких случаях в душе страстного охотника невольно является иногда и такое забавное чувство. Смотришь, например, на какой-нибудь обгорелый пень и завидуешь его положению, думая: «Счастливец! ты был так близко к ходу зверей и видел их в нескольких аршинах, — ну зачем на этот раз не я стоял на твоем месте…» Говоря это, вот как тут не вспомнишь своей молодости, когда, бывало, с особенным чувством певалось преглупейшее стихотворение, вероятно известное всякому уроженцу 30-х годов текущего столетия:
…Вдруг я вижу: чья-то ножка
Наступила на бревно!..
Вспомните, господа ровесники, и скажите, положа руку на сердце, прав я на этом листке как страстный охотник или нет? Так или не так, а мне почему-то сдается, что если вы, читатель, истый охотник, то в подобных охотничьих неудачах непременно чувствовали, а может быть, и говорили то же самое, что и я. Неужели я ошибаюсь? Ну, не может этого быть: охотничья страсть везде одинакова: как за бархатным жилетом богатого магната, так и за холщовой подоплекой рубахи сибирского простолюдина!..
Однако же я, кажется, заболтался и должен сказать, что, возвратившись к табору, развел снова огонек, зачерпнул в чайник воды и, повесив его на таган, свистнул Кудрявцева. Он, тотчас поняв, в чем дело, скоро подошел ко мне. Тут мне пришлось рассказать старику всю свою неудачу да погоревать уже вместе.
Напившись чаю, мы решились сначала проехать верхом по следу и, если нигде не увидим зверей, тогда отпустить собак, полагая, что, может быть, они нагонят дорогую дичину и остановят где-нибудь на отстое, то есть прижмут ее к утесу, оврагу или какой-нибудь круче, куда неудобно или невозможно спасаться хитрому зверю.
Следом мы проехали версты три или четыре, но когда ободняло и сделалось потеплее, так что подстывший мох получил свою природную мягкость и упругость — следы стушевывались на его поверхности, а мы начали сбиваться, тем более потому, что звери, «перевалившись» чрез небольшой хребтик, ушли в чащевитую северную покатость. Тут мы остановились и отпустили собак: они, стремглав бросившись по свежему следу, скоро скрылись из глаз, так что нам пришлось продираться чащей наудачу. Долго спускались мы под гору. Наконец пересекли какую-то речушку и не знали, куда ехать, потому что след потеряли давно, а о собаках не было и слуху. Но вот старик направился вниз по речке, а затем, версты через полторы, перехватил свежую сакму сохатых.
Тут возбудился очень интересный вопрос: пробежали собаки по следу или нет? А если прошли, то гнали зверей или только следили?
Долго мы ехали этой сакмой, но не могли найти никакого признака, который бы мог решить нашу задачу. Но вот мы увидали выбитое до земли местечко, где «греблась» козуля, а на нем ясно отпечатались две собачьих лапы разной величины. Эта, по-видимому пустая, штука очень определенно сказала нам, что собаки шли тут следом и бежали друг за другом, а если бы они гнали зверей, то были бы другие приметы уже не по самой сакме, а где-нибудь с боков хода животных.
Всю эту премудрость растолковал мне Кудрявцев, так что, заинтересовавшись его определением, я невольно спросил:
— Ну хорошо, дедушка! Теперь я убеждаюсь, что все это верно, но как же узнать, если б собаки, гнав зверей, бежали с боков?
— А тогда, барин, и самые звери пошли бы иначе. Тогда их сакма станет путаться в разные стороны, а собаки, забегая вперед, уж непременно бы где-нибудь подсекли травинки, ягодник, пруточки, а либо сбили лапами лежащие по земле шишечки. Они бы, значит, показывались нам не сухими, а черными брюшками, понамокши от сырости…
— Верно, дедушка, верно! Теперь и я понимаю: тебе, брат, и книги в руки! — перебил я Кудрявцева.
— Да тут, барин, и книг никаких не потребуется, а нужна только сметка да навык не глядеть по-пустому, а примечать, что богом человеку показано.
— Так-то оно так, да видишь, господь-то не всех наделил ровно…
— Вестимо, не всех, — перебил он меня, — вон другой весь век промышляет, а не знает пустяковины, ну а иной и молодой да ранний, того не собьешь и всемером не объедешь, нет! Он, брат, упредит, да и старому сопли-то вытрет…
— Понимаю!.. — вырвалось у меня невольно.
— Да тебе, барин, чего об эвтом рассказывать. Ты ведь и сам натурный да меня, старика, только щупаешь, — снова перебил он меня.
— Нет, дедушка, я бы до таких тонкостей своим умом не дошел, а знаешь пословицу: «Век живи да век учись».
— Это вестимо, что ум хорошо, а коли два — так и того лучше.
— Ну вот то-то и есть.
— Такие поговорки, барин, ведь не нами придуманы, а всякий их знает. Ну вот другой смолоду лежит на полатях и того не понимает, что свинья поросится. Нет, брат, везде надо практика, вот она и доводит до толковитости…
Продолжая разговор в этом роде, мы еще версты две проехали шагом по звериной тропе, по которой шли звери, но нигде не заметили того, чтоб они остановились. Наконец след их снова пошел на север, в хребет, так что Кудрявцев слез с коня отдохнуть, потому собаки голоса не подавали, а это говорило о том, что сохатые ушли и за эту большую возвышенность, куда ехать на авось нам уже не хотелось, так как продираться чащей да подниматься снова на хребет было уже крайне затруднительно.
Мы решились остановиться, чтоб сождать собак, а потому развели огонек и повесили на таган чайник.
— Ну, барин, не фарт наш сегодня. И с чего им так напужаться? Верно, духом хватило, что бегут, нигде не опнувшись?..
— А черт их знает, проклятых, с чего они одичали. Ну пусть бы меня увидали, а то я знаю, что этого не было.
— Значит, от табора навернуло, вишь, ветерком-то потягивает, а либо раньше уж пуганы. Это бывает, другой раз хоть и бросятся, да тут же где-нибудь и приткнутся в чащичку, а случается и так, что верст тридцать полощут напроход, не опнувшись, такой уж этот зверь и есть полохливый…
Пока мы пили чай, солнышко спустилось на вторую половину, так что мы не знали, что делать. То ли ехать обратно, то ли сожидать загулявшихся собак. Вследствие такого глупого состояния мы не расседлывали лошадей, не ложились отдыхать, а только толковали о зверях да все-таки прислушивались — не остановят ли где-нибудь собаки сохатых и не подадут ли голоса.