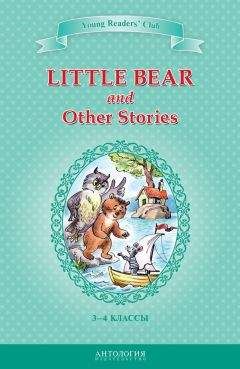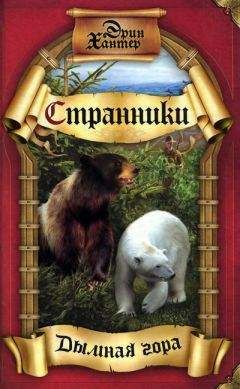Людвик Ашкенази - Брут
Где бы она ни была, стоило только часам на святом Якубе пробить четыре, как она поднималась и бежала на остановку, быстро и с такой радостью, что меня иногда аж завидки брали.
Несколько раз довелось увидеть, как они встречались. И всегда было одно и то же: только переглянутся и вроде как кивнут друг другу, а потом вместе идут домой.
Но это был бы длинный разговор, пан директор. Я знаю, у человека вашего формата другие заботы, я только погляжу, что щенята в корзинке поделывают — вот уж это меня удивляет: все-таки она, наконец, согрешила!..
Профессора того немцы посадили после убийства Гейдриха, и больше он не вернулся. Через два дня его фамилию объявили по радио, а потом еще напечатали на таком красном плакате со смертными приговорами… нашего двойного доктора. Что он сделал, долго никто не знал, все только крутили головами: вот уж, дескать, факт, нашло гестапо, кого забрать. Этот бы и мухи не обидел. А старик Здерадичек все вспоминал, как однажды пришел к доктору с листовкой, которую нашел в лесу на грибах, и как доктор ему посоветовал, чтобы он сдал ее в полицию. Потому, мол, немцы тоже большие любители ходить по грибы и листовки эти могли разбросать сами.
После войны мы узнали, что у нас ему пришлось скрываться, потому что в Праге он стоял во главе большой подпольной организации; кажется, тридцать два человека вытащил из Печкарны[13] и концлагерей. Хороший был человек, интеллигентный; вот только как одевался, не следил, да денег не берег…
И вот теперь, представьте себе, пан директор, что эта собака двенадцать лет подряд каждый день ходила встречать автобус в 4.12, зимой и летом. И каждый раз туда бежала быстро и с такой большой собачьей радостью… только пятки сверкали!
Возвращалась она теми же улицами с поникшей головой. Что, дескать, снова профессор не приехал. И что опять надо ждать до завтра, пока колокол снова не пробьет четыре.
Я туда ходил несколько раз… посмотреть на нее. Автобус за это время три раза сменили, двери у него автоматические, а иногда в нем и топят. Кондукторами теперь женщины, и из тех, кто в Кутную Гору ездил до войны, мало кто остался.
Этот взгляд, пан директор, видели б вы только этот взгляд, как она смотрела на двери!.. Я видел, как умирают собаки, и скажу вам: эта собака умирала каждый день!
Я ее уговариваю. «Фифи, — говорю, — чего ты свои чаплинские фокусы не выкидываешь, бестия ты лохматая? И не прокатишься на мотороллере. Ну на что тебе, скажи на милость, этот автобус сдался?»
Ко мне она доверие питает и ночует у меня часто. Она у меня и кусочек черствой булки возьмет. Но хозяином своим не признала, и я на нее не в обиде. Я ее понимаю.
Человек, когда лишится своей любви, часто привязывается к общим знакомым.
Такой человек говорит себе: «Когда она была в красной кофточке, нам повстречался Франтишек».
И бежит за Франтишеком! Вдруг у того на пиджаке красная ниточка осталась. Вы же меня понимаете, пан директор, что я хочу сказать… Я хорошо помню, как у вас все кончилось с Боженой. А может это была Лида?..
Так вот, чтобы уже досказать. В конце концов с этой собакой приключилось то, что ей, может, было нужно меньше всего, — потому бессловесной твари этого не оценить. Прославилась она! Сначала про нее написали в «Народном глашатае», тут у нас один артист этим промышляет; я вам это покажу, а еще лучше, если вы, пан директор, сами прочтете. Или это прочту я — больно все стерлось. Вот послушайте:
«Верность за верность. От нашего корреспондента. Необычайный пример собачьей преданности был отмечен в Верхних Коноедах…»
— Я вам все читать не стану, очень красиво тут написано, я бы так в жизни не сумел. Потом приехали из кинохроники и пять часов ждали на остановке с камерой и лампой; вокруг народу полно собралось. А когда пробило четыре и собака пришла, легла и стала ждать, дети хохотали до упаду. Потом этот киношник вертелся по-всякому, присаживался на корточки, снимал Фифишу слева и справа, спереди и сверху, а потом снял дверь автобуса, как она медленно и рывками открывается…
В конце концов у него будто бы оказалась плохая пленка, и ее даже не проявили. Только мне в ту ночь снился сон: сижу я в кино, смотрю на наш автобус и вдруг вижу — вылезает из него профессор и в той самой грязной рубашке, как тогда на вечеринке.
— Пан доктор, — говорю ему, — слава богу, что уже едете, а то ведь эта собака совсем обезножить могла.
И тут в кино внезапно загорелся свет, все люди, смертельно бледные, ринулись на улицу, дескать, горит. И все кричат: «Ох, господи, это же не та картина, мы же шли на комедию!»
Проснулся я в холодном поту, зажигаю свет, на будильник посмотреть, гляжу — у кровати лежит собака. Когда она пришла, не знаю; она всегда приходила, когда ей вздумается.
— Фифи, вот тебе кусочек домашней колбаски с потрохами, — говорю, — ведь сегодня четверг, а ты во «Льва» не приходила!
Но она, любушка, не взяла. И может быть как раз в ту ночь после съемки согрешила. А не то просто наступила ее пора, впервые после стольких лет. Никто не хотел верить, но щенята — вот они…
Так я пошел, пан директор, вижу у вас глаза слипаются. Небось, у вас другие мысли в голове, а я вам тут про собачью жизнь толкую.
Вот. А теперь пойду с ними, темно уже, и брошу их в воду всех вместе и с корзинкой, и еще положу в нее камень. Никто их не хочет, что с ними, бедненькими, делать? Пошли, пошли, голубчики, малышки вы крохотные, Фифишки маленькие.
Или может вы, пан директор, хоть одного возьмете?
Цыпленок
Когда ее будила мама, она всегда радовалась, пусть это было утром или после обеда, или ночью. Вставать она еще любила, ей было всего пять лет. Просыпалась она только на третьем слове, но слышала уже первое, которое входило во все ее сны и чувствовало себя там как дома. Это первое слово было «Катенька». Второе — «Катя». А третье слово — когда уже взаправду нужно вставать! — звучало так: «Катерина!»
На этот раз все три слова слились в одно, и это уже даже не было словом. Сначала залились лаем собаки и вступили в сон, и продолжали там лаять дальше. Потом, как недоколотый поросенок, завыла сирена, кто-то закричал, кто-то заплакал, а когда Катя раскрыла глаза, в темноте упала звезда и уже больше не вернулась на небо.
— Мама, — сказала Катя, — почему я в одеяле?
И сразу увидела, что она не только завернута в одеяло, но и что мама несет ее на руках, что стог за избой Цисаржовых горит, а на площади колышется черная масса людей. И там же Пеструха, и Гнедой, и Галка.
— Мама, — сказала она, — ты идешь кормить коров?