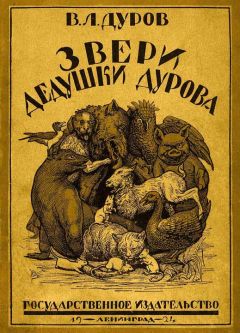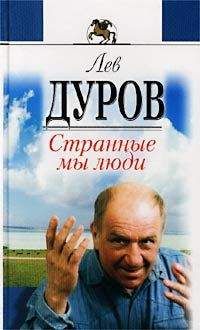Владимир Дуров - Пернатые артисты
Первые шаги, так блестяще начатые, вывели Босоножку на дорогу настоящей великой артистки, и она со мной пустилась в представления по разным городам.
Везде встречали мою питомицу восторженно. И когда она слезала с вагона маленькой цирковой железной дороги, проложенной через арену, навстречу ей неслись звуки уже настоящей музыки и аплодисментов.
Она танцовала. Она играла на цитре. Она поражала маленьких и больших зрителей, смотревших на нее со всех концов цирка, а закончив свой номер, спокойно возвращалась в вагончик, который и увозил ее на маленьком свистящем паровозе в цирковые конюшни.
Раз я наблюдал у себя, в саду своего «Уголка», днем уморительную картину: на балконе сидела моя семья и с закопченными стеклышками ждала с минуты на минуту полного затмения солнца. Моя курица со своим супругом-петухом разгуливала по дорожке сада, срывая изредка с растений паучков и мушек.
Наконец наступила полутьма, и я заметил следующую картину, которая никогда не изгладится из моей памяти: петух, странно вытянув шею и перегнув голову, посмотрел одним глазом на небо и направился в курятник. Курочка поспешила за ним, и они вдвоем уселись на насест спать, как делали это каждый день вечером… Они решили, видимо, что наступила ночь, и пора отправляться на покой…
Сократ
Я никогда не ем гуся. С гусем у меня связано тяжелое воспоминание.
Это было в дни моей юности. Весь «штат» моих дрессированных животных состоял из свиньи Чушки, собаки Бишки и гуся Сократа.
Это были мои лучшие друзья. Я любил их. Они любили меня.
IIРаз, наблюдая за птицами, я впустил в комнуту трех гусынь и гуся Сократа. Записывая каждое их движение в дневник, я заметил, как гусыни стали все сразу гоготать, а Сократ, вытянув голову, стал впереди своих жен и вытянутой горизонтально, как палка, шеей загородил путь гусыням.
Эта поза сопровождалась, как всегда, шипением. Гусь ведет себя так же и при нападении.
IIIЯ сразу не понял, в чем дело. Кроме меня, никого не было в комнате. При дальнейшем наблюдении за поведением Сократа я заметил, что он защищает гусынь от самого себя и приготовляется напасть на свое изображение. В большом зеркале семья гусей увидела себя.
Я выучил Сократа ходить по арене цирка кругом, как ходят лошади у барьера, и останавливаться, когда останавливался посредине арены я. Потом я выучил его разным поворотам, переходам по арене и перелетам через барьеры. Благодаря Сократу я имел возможность выводить на арену целое стадо гусынь. Куда бы ни шел Сократ, за ним бежало гуськом его стадо. Стоило ему при моем слове «стой» остановиться, как все стадо останавливалось, точно вкопанное. Гуси, как солдаты на маневрах, дружно выполняли, благодаря Сократу, мою команду.
Когда я устраивал на арене войну, мои гуси, как дисциплинированное войско, шли на неприятеля (на кур, петухов и индюков), или смело двигались в атаку во главе со своим командиром Сократом.
Сократа я учил и отдельным номерам: он у меня умел, неуклюже переваливаясь, кружиться и танцовать вальс.
Выучил я его и стрелять из ружья.
Сделал я это так: взял кисть со шнуром от портьеры, внутри кисти прилепил мякиш черного хлеба и, не из руки, а из этой кисти, дал ему выбирать хлеб. Таким образом Сократ знакомился с неизвестным для него предметом.
В следующий раз при кормлении я левой рукой держал за шнур, и когда Сократ стал искать клювом в бахроме кисти хлеб, я правой рукой давал ему этот хлеб.
Как только, проглотив хлеб, Сократ прикасался к кисти, он тотчас же получал вознаграждение.
Много раз я это повторял, пока Сократ хорошо понял, что получит хлеб только после того, как прикоснется клювом к кисти.
Но вот я сразу прекратил давать приманку, и он, не находя в кисти хлеба и не получая его из моих рук, начинает нетерпеливо дергать кисть.
Только этого я и ждал. Гусь тотчас же получил хлеб в награду.
Где бы ни увидал потом Сократ висящую кисть, он подходил к ней и начинал трепать ее широким клювом. Он дергал до тех пор, пока не получал награды.
Остальное понятно: я сделал пьедестал, прикрепил к нему ружье, заряженное пистоном, привесил кисточку к собачке взведенного курка.
Гусь тянул кисточку и тем производил выстрел, сначала лишь пистонами, пока не привык к шуму, а потом и полным холостым зарядом.
Я очень любил Сократа. Он был совершенно ручной.
Раз мне пришлось, за неудобством помещения, ночевать с ним в одной комнате, и он, как только стало рассветать, проголодался и стал стягивать с меня одеяло. Так он часто будил меня по утрам. Научившись стрелять, дергать за кисточку, он потом самостоятельно тянул меня за одеяло, чему я его не учил.
Сократ, живя со мной, быстро привык и к собаке Бишке.
IVЯ говорил моим друзьям, Бишке и Сократу:
— Плохо нам живется… плохо мы едим — и я, и вы… Комната наша не топлена. Мне нечем платить за нее… Да, друг Сократ, нечем… нет денег. Может-быть, меня с вами скоро выгонят на улицу. Придется ночевать в холодном досчатом балагане, где я с вами выступаю на потеху публике.
А мое положение, да и не только мое, но и всех товарищей-артистов, было в тот год отчаянное.
Наш балаган совсем не делал сборов. Антрепренер Ринальдо только злился, когда мы заводили речь о получке жалованья.
Мы голодали…
Труппа наша состояла из меня, силача Подметкина, который на афише назывался почему-то Незабудкиным, «человека-змеи» Люцова, его жены Ольги — «королевы воздуха», шпагоглотателя Баута и музыканта, игравшего на разных инструментах, — Быкова. Подметкин от голода страдал больше всех. Его могучее тело требовало большого количества пищи. Он рычал и стучал кулаками по досчатым стенам балагана.
— Да пойми же ты, — кричал он антрепренеру, — я жрать хочу! Дай полтинник!..
— Где его взять, полтинник-то? — злился Ринальдо. — Вчера сбору опять было три рубля семьдесят копеек. Никто на вас и смотреть не хочет.
— У меня мускулы слабеют, — волновался Подметкин.
— Ох, поджечь разве балаган? — не отвечая ему, говорил Ринальдо, и мы видели по его глазам, что он не шутит.
— Да вы с ума сошли, Ринальдо, — возражала искусная акробатка, так называемая «королева воздуха». — Поджечь балаган накануне праздника? На святках публика будет к нам ходить…
— Да, будет, держи карман, — уныло говорил «человек-змея». — У меня вот трико последнее порвалось…
Лучше других жилось музыканту. Его полюбили купцы. Он их потешал игрою на гармонике и привязанной на груди свистульке, по которой он водил губами, в то время как за спиной у него гудел барабан с медными тарелками. Барабаном он управлял одновременно при помощи веревки, привязанной к каблуку правой ноги. Каждый день по окончании представления он шел в трактир и проводил там всю ночь.