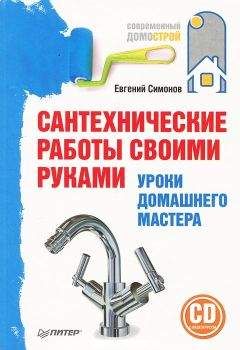Иван Симонов - Охотники за сказками
Долго его полиция искала. И в деревню много раз наведывалась. Все, видать, ей узнать хотелось, не скрывает ли Рыбачка кто-то из наших мужиков.
— С тобой, ведь тоже, помнится, был деловой разговор по душам? — повернулся дедушка к Степану Осипову.
— Был. Доискивались, где я его видел последний раз, — подтвердил Осипов. — А я всего-то один раз с ним повстречался. Теперь признаться можно. Тогда не сказал.
— А он коммунист был, Рыбачок-то? — осенило Леньку.
— Кто его знает. Может, и коммунист. Об этом его никогда не спрашивали, и сам он не заикался. Думается, что коммунист. За кем же другим, если не за коммунистом, так гоняться бы стали! Как дум'аешь, Сергей — коммунист он был. Рыбачок-то? Чего молчишь, будто в рот воды набрал? — Тебе-то он, может быть, сказывал?
— Да, — оторвавшись от какого-то раздумья, негромко сказал Сергей. Помолчал, разглядывая присохшие мозоли на ладонях, уверенно добавил — Коммунист. Член коммунистической партии. Сюда его послали место подыскать, где можно листки печатать. Так и мне говорил, когда я к нему в Перелетную рощу бегал.
— И не боялся, что в тюрьму могут засадить? — подивился Осипов.
— Боялся ли, это ему знать. А беспокоился. Предупреждал меня: «В случае чего, не поленись, в Марьинку сбегай, там Гришаеву сообщи, что меня здесь нет. Больше ничего не надо. Он знает, куда передать следует».
— Значит, не ты первый коммунист, который эту землянку обживает, — определил дедушка последовательность. — Он, Рыбачок, был здесь первым. Не пойму только, почему он и от ищеек скрывался, и от своих тоже прятался.
— Партия-то в России запретной была, — нащупывает дорожку для объяснения Сергей. — Время такое. И себя уберечь надо, и других чтобы не подводить. В книжках о коммунистах-подпольщиках только теперь свободно стали рассказывать. И как они под чужими фамилиями жили, и где скрывались, и какие листовки печатали — все известно.
— И Рыбачок из наших-то лугов тоже вот сюда перебрался, — указал Никифор Данилович на землянку. — Над Лосьим озером целую осень и зиму прожил. Ненила, сторожиха, тогда в силе была. Землянку эту соорудить ему помогала, печурку железную притащила. Нет поблизости чужих людей — ив сторожку обогреться приглашала. Удобства большого хотя и нет, зато в лесу спокойнее. А Нениле он, как самому себе, верил. У нее в избушке с товарищами встречался. Ну, и с питанием, само собой, здесь надежнее. Ненила ничего не жалела, ни за что денег не спрашивала. Станет предлагать — разругает его. По весне в город отправлялся — попрощаться зашел.
— Может, жив?! — вздохнул Сергей. — Посмотреть бы нынче на старого знакомого! Перелетную рощу припомнить. Не узнает, — сказал с сомнением. — Тогда я, наверно, не больше Коськи был… Нет, не больше. Про Лосье-то озеро сказать он мне не доверил.
— Здесь находился, — подтвердил дедушка. — Может, жив еще. Лет через семь после ухода Нениле перевод прислал. «От постояльца на корову» написано. И письмо коротенькое. Оно и сейчас там хранится, — головой мотнул дедушка в сторону, где должна стоять сторожка.
— Так что сторожиха-то свое дело знает, умеет, когда надо, язык за зубами держать, — напомнил Гуляеву. — И тебе пора бы ее получше знать, не городить про нее чепуху.
Никто дедушке не возражал, на его упрек не сердился.
А я ночью видел Рыбачка. Собирает над озером сухой хворост. Греет ноги в сырых носках возле раскаленной железной печки. На столике, сколоченном из двух сосновых досок, пишет, пишет какие-то бумаги, которые где-то очень нужны и следует поскорее их по назначению отправить.
А сверху, чуть заденет головой, осыпается мелкий песок, набивается за ворот рубахи, присыпает тонким слоем написанное на бумаге.
Бабка Ненила, веселая, в новом синем платье, с белым горошком, в белом платке, повязанном под узелок, зовет нетерпеливо, машет легкой рукой через озеро: «Хватит, хватит тебе в промозглой землянке мерзнуть! Иди обсушись, обогрейся у нас в сторожке. Там в гости к тебе товарищи понаехали».
«Я спать ложился. Снится мне это», — доказываю сам себе.
И снова вижу железную печку, раскаленную докрасна, склоненную над самодельным столом худую спину Рыбачка. Лица не видно.
Четыре бабки
Сторожка над Лосьим озером одна, и сторожиха в ней одна живет. А я уже двух знаю, обеих Ненилами зовут. Одна рослая, сильная, бесстрашная, дюжему мужику под стать. Глаза строгие, холодные. Надумает — пожалеет ласково, надумает — отругает, недорого возьмет. Такую издали уважать, со стороны смотреть на нее хорошо, а поблизости и побаиваться. — худа не будет. Про такую бабку дедушка Никифор рассказывал.
Другая Ненила — та маленькими шажками ходит, оступиться боится, а все куда-то торопится. Не успеет руки от головы отнять, смотришь, опять платок поправляет. «Парнишки, бегите-ка сюда скорее. Я вам яблок в саду набрала. Паданец, а сладкие. Все, все из лукошка забирайте, по карманам себе рассовывайте. А в сад к нам не лазьте, сучья на яблонях не ломайте». У нее нос добрый, пробковый. Жиловатые руки дрожат немножко, и между зубами глубокая дыра чернеет. Такие бабушки хорошие сказки знают, страшные и длинные.
— Коська, убирай подальше свои ложки-плошки. Поехали по озеру кататься!
Васек на плоту приткнулся к берегу. Когда впереди веселая прогулка и добрая рыбалка представляется, тут и лишнюю минуту на хозяйственные дела потерять жалко. Моментально закругляюсь.
— Отталкивайся! — даю знать Ваську. — Разворачивай шестом на самую середину.
Жаль, не написана еще тогда была эта песня. «Буря, ветер, ураганы. Нам не страшен океан». Про молодых капитанов, она очень бы кстати пришлась.
Выбрались на сверкающую струю — пустили плот по воле волн. Вперед не подаемся, кружится на одном месте. Лес, камыши, ближняя заводь, низкорослый ольховник по берегу неторопливо перед нами поворачивается. Лысанка рысцой трусит на наши голоса, жалобно помукивает.
Мы устраиваемся бочком на двухстороннем низком сиденье, плечом чувствуем друг друга. Болтаем без умолку, что на ум взбредет, только бы не молчать. Тут я третью бабку Ненилу узнаю.
— Не такая, ни капельки не похожая! — довольный моей ошибкой, размахивает Васек ладонью. — Все это ты придумал. Никакая она не бесстрашная. Хочешь, скажу?!
Вывесил обе руки у себя перед глазами, подгибает правой пальцы левой руки. По мизинцу ударил:
— Грозы боится. Окна одеялами занавешивает. От молнии за простенок прячется… Что, неправильно?!
Безымянный пригнул ладонью.
— Пауков боится. Каждый раз меня зовет: «Прихвати его тряпочкой, выбрось через окно на улицу».