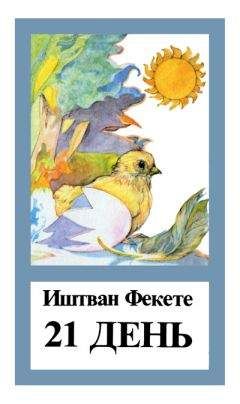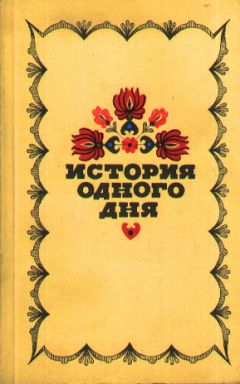Иштван Фекете - Репейка
Отзвук выстрела, слабея, проносится над долиной, отдается сонным эхом в старом строевом лесу, и с веток осыпается иней, давно уже вожделеющий к земле.
В такую минуту старый Галамб перестает накладывать сено или выстругивать прутья.
— Э, слышишь?
Янчи смотрит в ту сторону, где склоны холмов играют с отголосками выстрела, показывая, что, само собой, слышит. Он даже рот открывает, потому что с разинутым ртом слышнее, и примечает в уме то место, где бродят охотники.
— По горелой вырубке ходят.
Они продолжают нарезать прутья, сверлят дырки, а мысли бегут по одной и той же тропе и, пока стружка набирается кучкой, обо всем договариваются, не произнеся ни слова. Лишь под вечер, стряхивая со штанов опилки и оболонь, старший пастух говорит:
— Пойдешь поглядишь?
— Ясное дело.
— За Репейкой присматривай. Отдыхать ей давай. Она уж старая, молоко пропасть может…
И на другой день перед рассветом — сыч с конька кровли еще пялился на убывающую луну — Янчи приоткрыл ворота овчарни и позвал в темноте:
— Репейка!
Старая Репейка уже бодрствовала, прислушиваясь к шагам, — разумеется, она точно знала, что это шаги Янчи, — и моментально выросла у сапог подпаска, так что он ее и не заметил.
— Репейка!
— Вот она я, — сказала бы собака, будь она человеком, — ты что, слепой?
Но Репейка умела сдерживаться и никогда не дерзила, ведь она была всего-навсего скромная собачонка, а потому только положила лапу на сапог Янчи, говоря этим движением: «Да, я здесь и жду приказаний».
— Чего ж голос не подаешь, старушка, или не соображаешь, что я не вижу?
На это Репейка и вовсе не нашлась что ответить, но так как уже многократно была не только бабушкой, а и прабабкой, то ни капельки не обиделась на подпаска, обозвавшего ее старушкой. Нет, старая собака отлично знала, что она старая, и совсем не походила на тех пеструшек рода человеческого, которые представляются молоденькими при помощи целого арсенала всяческих чудодейственных снадобий и сборника рецептов, так как их отработавший свое организм то в одном, то в другом месте требует смазки, а фасад — штукатурки, побелки, иначе говоря, ремонта.
У старой Репейки все было в полном порядке, она изнашивалась равномерно, никогда у нее ничего не болело, потому что жила собака так же естественно, как ольха на берегу озера — не считая человеческого окружения, — когда же придет ее время, время угасания, каждая мельчайшая клеточка чудесного ее организма заснет одновременно, остановится, словно часы, у которых кончился завод и уже нельзя завести их вновь. Тогда Репейка испустит вздох — один-единственный вздох — и ее живая суть таинственно растает, словно пар.
Однако не к чему, как говорится, малевать на стене черта, потому что, во-первых, сам черт не знает, как он выглядит, а во-вторых, стены овчарни даже в солнечный день не пригодны для рисования.
Репейка понюхала свисающий у Янчи из-под мышки мешок и тихо-претихо тявкнула.
— Мы идем на охоту… ух ты!.. мы идем на охоту! — говорил этот приглушенный звук, у собак равнозначный шепоту, которым Репейка кроме всего прочего заверяла Янчи, что он может быть спокоен, больше никакого шума не будет, собака теперь знает, в чем дело.
Похрустывал снег, туман скатился в долину, и сразу стало холоднее, словно рассвет истекал стужей над холодным предутренним ручьем.
Впрочем, Янчи и Репейка совсем не мерзли. Они перепрыгнули через узкий поток и вскарабкались на противоположный берег, то есть вскарабкался Янчи, легкое же тело Репейки так и взлетело по снегу.
— Не спеши, Репейка, — прошептал Янчи, — поспеем. Да мне и не видать ничего.
Репейка сдержала порыв, понимая: человеку от нее что-то нужно. В шепоте вообще ощущался ею приказ притормозить, точно так же как в крике содержалось понукание: вперед!
Дойдя до середины пастбища, Янчи подозвал собаку и бросил мешок на снег.
— Посиди малость, Репейка! И давай обмозгуем с тобой это дело.
Репейка улеглась на мешок, не спуская глаз с человека, который между тем размышлял вслух.
— Значит, так: осмотрим кусты, а на горелой вырубке пройдемся по подлеску. Эдак, знаешь, на скорую руку, там да сям, чтоб не нарваться на обходчика. Обходчик завистливая свинья… сама знаешь.
Нет, Репейка не знала, что такое зависть, но что такое обходчик — лесник, — смутно понимала и отлично представляла себе, что такое свинья. Взаимосвязи она, правда, не уловила, однако Янчи доверяла слепо и потому энергично завиляла хвостом, давая понять: будь что будет, но, если Янчи прикажет, она набросится на свинью и даже на лесника.
Из сказанного ясно, что наши охотники собрались промыслить в заказнике и встреча с лесником могла иметь весьма неприятные последствия. Разумеется, это не была настоящая охота, хотя и строилась она в расчете на ружья, на вчерашние выстрелы. И на подраненных зайцев, фазанов, лис, которые с виду невредимыми ушли в лабиринты покрытых инеем кустов, уже неся в себе смерть в образе нескольких крошечных дробинок. Звук выстрела — словно удар бича, впивающегося самым кончиком в шкуру дичи. Не так уж и больно, но придет ночь, наступит темнота, подымется жар, наползет страх, потому что поранена лапка или кровоточит крыло. Если ж дробинки проникли глубже, дичь хоть и успевает после выстрела скрыться, но через несколько минут ей конец. И уже никогда больше никто ее не увидит, только боярышник станет пышнее, ломонос толще, терн гуще покроется цветом, потому что в зимнем снегу разложившийся трупик преобразится, перекочует в почки, ветки, цветы.
Вот на этих подранков и охотились два наших знакомца, рассудив, что потерянная дичь принадлежит тому, кто найдет ее, а найдет тот, кто ищет. Закон, правда, говорит другое, так как охотиться можно не только с ружьем, но и с собакой. Однако Янчи и Репейка не углублялись особенно в трактовку законов об охоте. Они рассуждали так: пусть лучше они полакомятся зайцем, чем черви, — и до какой-то степени были правы, ибо попросту хотели есть.
Между тем Репейка уже дрожит на своем мешке. Что означает:
— Мне холодно, пора бы и в путь…
— Ну, коли так, слезай с трона, — соглашается Янчи и берет «трон» под мышку. — Вроде бы уж светает.
Светать, конечно, еще не светает, только очертания темноты чуть-чуть сереют, сперва на восточном небосклоне, на гребне лесов, потом на колючих и складчатых, оборчатых юбках кустов, разбежавшихся по заснеженному холму.
Янчи идет согнувшись, читая росписи следов на снегу, Репейка то и дело обегает увитые ломоносом кусты, кое-где настороженно принюхиваясь.
Ветра нет: предательские запахи приглушены и смыты снежными испарениями, так что Репейке приходится на совесть прочесывать раскидистые кустарники, чтобы не пропустить лакомый кусочек — она знает: часть добычи причитается ей. Если же прибавить к этому унаследованную от предков страсть к охоте, пылающую в крови столь же давно, как и самый огонек собачьего существования, то можно ли удивляться, что Репейка точно усвоила значение слова «охота», и по первому же знаку у нее пробегает вдоль позвоночника ощущение извечной свободы, смутный трепет всех тысячелетней давности охот.