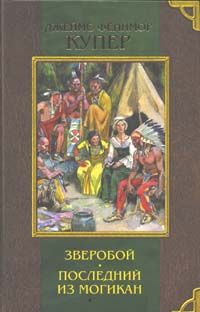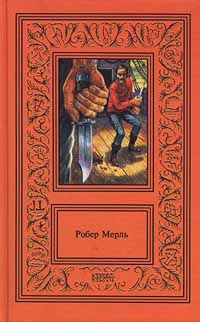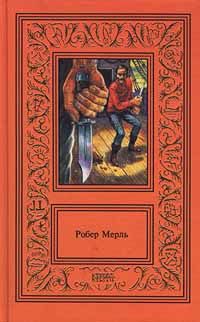Джеймс Купер - Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе
— Скажите, вы склонны поддаваться чувству трусости? — спросил он певца, желая хорошенько обсудить все, прежде чем делать какие-либо распоряжения.
— Мои занятия мирные, а мой характер, смею надеяться, очень склонен к милосердию и любви, — ответил Давид, несколько обиженный такой прямой атакой, — но никто не может сказать, что я когда-нибудь, даже в затруднительных обстоятельствах, забывал веру в господа.
— Главная опасность для вас будет в тот момент, когда дикари увидят, что их обманули. Если вас не убьют сразу, значит, вас спасет то, что они считают вас человеком не в своем уме; тогда у вас будут все основания, чтобы, когда придет ваше время, умереть у себя в постели. Если же вы останетесь здесь, то должны сесть в тени и играть роль Ункаса до тех пор, пока хитрые индейцы не откроют обмана; тогда, как я уже говорил вам, наступит для вас время испытания. Итак, выбирайте: бежать или оставаться здесь.
— Я останусь здесь вместо делавара, — твердо сказал Давид. — Он сражался за меня храбро и великодушно, и я готов сделать для него не только это, но и гораздо большее.
— Вы говорите как мужчина. Опустите голову и подберите ноги — их необычайная длина может слишком рано выдать истину. Молчите как можно дольше, а затем, когда придется заговорить, хорошо было бы, если бы вы сразу разразились одним из тех криков, которые свойственны вам: это напомнило бы индейцам, что вы человек невменяемый. Но если они скальпируют вас, чего, я уверен, они не сделают, то будьте спокойны: Ункас и я не забудем этого и отомстим за вас, как следует истым воинам и первым друзьям.
— Погодите, — сказал Давид, видя, что они собираются уходить. — Я недостойный, смиренный последователь того, кто учил не воздавать злом за зло. Поэтому, если я паду, не приносите жертв моим смертным останкам, но простите тех, кто лишит меня жизни; а если и вспомните их иногда, то пусть это будет в молитвах о просвещении их умов и вечном блаженстве.
Разведчик смутился и задумался.
— Это совсем не похоже на закон лесов, — сказал он, — но, если поразмыслить, это прекрасно и благородно. — Он тяжело вздохнул и прибавил:
— Да благословит вас небо, друг мой! Я думаю, что вы идете по довольно верному пути, если взглянуть на него как следует, имея перед глазами вечность.
Сказав это, разведчик подошел к Давиду и пожал ему от всей души руку; после этого он сейчас же вышел из хижины в сопровождении одетого медведем Ункаса.
Как только Соколиный Глаз увидел, что за ним наблюдают гуроны, он вытянулся во весь свой высокий рост, стараясь изобразить сухую, жилистую фигуру Давида, поднял руку как бы для отбивания такта и запел, стараясь подражать псалмопевцу. К счастью, для успеха этого рискованного предприятия ему приходилось иметь дело с ушами, мало знакомыми со сладкими звуками. Необходимо было пройти вблизи группы дикарей, и голос разведчика становился все громче и громче по мере приближения к ним. Когда они подошли совсем близко, гурон, говоривший по-английски, вытянул руку и остановил разведчика.
— Что же делаварский пес? — сказал он, наклоняясь и стараясь разглядеть выражение глаз того, кого он принимал за певца. — Он испугался?.. Когда же мы услышим его стоны?
В ответ на это раздалось яростное рычание, так походившее на рев настоящего медведя, что молодой индеец опустил руку и отскочил в сторону. Соколиный Глаз, боявшийся, чтобы голос не выдал его «хитрым врагам, с радостью воспользовался этим мгновение» и разразился таким взрывом музыкальных звуков, который в более утонченном обществе назвали бы какофонией. Но среди его слушателей эти звуки только дали ему еще более прав на уважение, оказываемое дикарями тем, кого они считают сумасшедшими. Маленькая кучка индейцев отступила, пропустив, как они думали, колдуна и его вдохновенного помощника.
Со стороны Ункаса и разведчика требовались необычайная смелость и сила воли, чтобы продолжать свой путь так же величественно, как они шли и мимо хижин, в особенности когда беглецы заметили, что любопытство взяло верх над страхом и караульщики подошли к хижине, чтобы убедиться в действии колдовства на пленника. Малейшее неловкое или нетерпеливое движение Давида могло выдать их, а выгадать время было необходимо. Громкие крики мнимого псалмопевца привлекли многих любопытных, которые следили за уходившими, стоя у порога своих хижин; раза два-три им пересекали дорогу некоторые из воинов, подстрекаемые суеверием или осмотрительностью. Но никто не останавливал их, темнота ночи и дерзость попытки благоприятствовали их замыслу.
Беглецы уже выбрались из селения и быстро приближались к густому лесу, когда из хижины, где был заключен прежде Ункас, раздался протяжный громкий крик. Могиканин вздрогнул.
— Погоди! — сказал разведчик, хватая друга за плечо. — Пусть они крикнут еще раз. Это был только крик удивления!
Медлить было нечего, так как в следующее же мгновение новый взрыв криков наполнил воздух и разнесся по всему лагерю. Ункас сбросил с себя медвежью шкуру. Соколиный Глаз слегка ударил его по плечу и проскользнул вперед.
— Ну, пусть теперь дьяволы гонятся по нашим следам! — сказал разведчик, вынимая из куста два заряженных ружья; размахивая над головой «оленебоем», он подал Ункасу его ружье. — По крайней мере, двое из них найдут свою смерть.
Они опустили свои ружья, как делают это охотники, готовясь к началу действий, бросились вперед и вскоре исчезли во мраке леса.
Глава XXVII
Антоний. Я буду помнить. Ведь слово Цезаря — закон.
Шекспир. «Юлий Цезарь»Любопытство дикарей, оставшихся у темницы Ункаса, одержало верх над их страхом перед колдуном.
Осторожно подкрались они к щели, сквозь которую пробивался слабый свет огня. В продолжении нескольких минут они принимали Давида за своего пленника, но затем случилось именно то, что предвидел Соколиный Глаз. Певец, утомленный долгим сидением в скорченном положении, постепенно стал вытягивать свои ноги, и наконец одна из ног коснулась угасавших углей и отбросила их в сторону. Сначала гуроны подумали, что это сила чародейства так изуродовала могиканина. Но, когда Давид, не подозревая, что за ним наблюдают, повернул голову и показал свое простодушное лицо, всякие сомнения рассеялись даже у легковерных дикарей. Они бросились в хижину и, накинувшись без всякой церемонии на сидевшего там человека, немедленно увидели обман. Тогда раздался первый крик, который услышали беглецы. За ним последовал второй, в котором зазвучали злоба и жажда мести. Как ни был тверд Давид в своем намерении прикрыть бегство своих друзей, он все же подумал, что наступил его последний час. У него не было ни книги, ни камертона; пришлось обратиться к памяти, редко изменявшей ему.