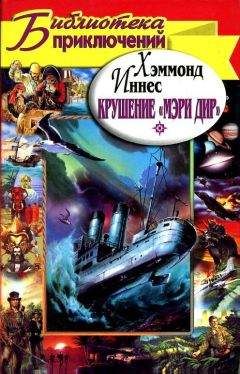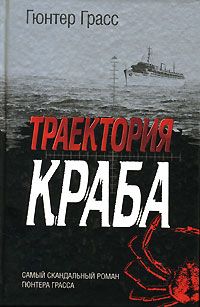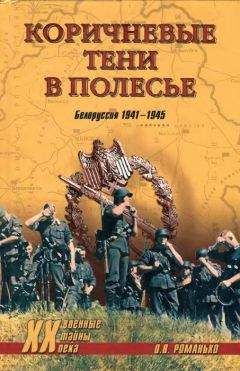Джон Теннер - Тридцать лет среди индейцев
Беспечность, вошедшую у индейцев в привычку, и их отвращение к регулярной работе можно постепенно преодолеть посредством таких поощрений, как награждение лошадьми, крупным рогатым скотом, инструментами, сельскохозяйственными орудиями, красивой одеждой, скромными, но изящными украшениями. Такие награды можно было бы раздавать как знаки почетного отличия и поощрения за прилежание и настойчивость в труде. Эти усилия, направленные на повышение трудолюбия индейцев, должны сочетаться с их просвещением, причем к учению надо приобщать не одного из 10 тысяч индейских детей, а всех поголовно. Надлежащее место должно занять и обучение английскому языку. Нельзя жалеть усилий для достижения любой из этих целей! Нам представляется очень важным, чтобы индейцы не только научились английскому языку, но одновременно отказались от своего собственного, а также от всех своих традиционных взглядов и представлений.
Если бы все это удалось осуществить, если бы, далее, в качестве вознаграждения за соблюдение предписываемых правил поведения индейцам предоставлялись все гражданские права и привилегии, включая право на владение имуществом определенного размера, то в характере индейцев произошел бы быстрый и резкий перелом к лучшему. Посредством ряда таких мероприятий хотя бы часть индейского народа можно было бы сохранить и приобщить к обществу белых. Разрозненные же и независимые индейские племена, сохраняющие свой язык, обычаи и взгляды, едва ли жизнеспособны.
ГЛАВА I
Воспоминания о раннем детстве. — Похищение. — Путешествие от устья Майами в Сау-ги-нонг. — Церемония усыновления семьей моих приемных родителей. — Жестокое обращение. — Меня продают в семью Нет-но-квы. — Переселение на озеро Мичиган.
Самое раннее событие в моей жизни, которое я отчетливо помню, — смерть матери. Это случилось, когда мне было два года, но многие сопутствующие обстоятельства так глубоко запечатлелись, что они все еще свежи в моей памяти. Я не могу вспомнить, как назывался поселок, в котором мы жили, но позднее узнал, что он находился на берегу реки Кентукки, на порядочном расстоянии от Огайо.
Мой отец, Джон Теннер, выходец из Виргинии, раньше был священником евангелической церкви. Он прожил долгие годы после того, как меня похитили индейцы, и умер через три месяца вслед за сильным землетрясением 1811 года, разрушившим часть города Нью-Мадрид и ощущавшемся на всем протяжении Огайо.
Вскоре после смерти матери отец переехал в поселок Элкхорн. Там была пещера, куда я часто ходил с братом. Мы брали с собой две свечи и, вползая в пещеру, зажигали одну из них, продвигаясь вперед, пока она горела. Затем зажигали вторую и шли назад, добираясь до выхода раньше, чем она гасла.
Иногда на поселок Элкхорн нападали группы враждебных индейцев шауни; они убивали нескольких белых и уводили с собой скот, а иной раз пристреливали коров и лошадей. Однажды ночью мой дядя (брат отца) и другие мужчины подкрались к индейскому стану и обстреляли его. Дядя убил одного индейца, скальп которого принес домой; остальным удалось спастись, бросившись в реку.
Во время нашего пребывания в Элкхорне произошло одно событие, которому я приписываю многие несчастья, случившиеся со мною позднее. Однажды утром, собираясь но делам в соседнюю деревню, отец, как потом выяснилось, строго приказал моим сестрам Агате и Люси отправить меня в школу. Но они вспомнили об этом только во второй половине дня. Между тем погода испортилась, начался дождь, и я настоял на том, чтобы остаться дома. Когда отец вернулся вечером домой и узнал, что я так и не пошел в школу, он заставил меня самого принести пучок розог и высек. Наказание на мой взгляд было более жестоким, чем я заслуживал. Я затаил обиду на сестер, которые свалили всю вину на меня, хотя утром не удосужились сказать мне, что нужно идти в школу. С этого дня отчий дом стал мне менее дорог, чем прежде. Я часто думал и говорил: «Мне бы хотелось уйти к индейцам и жить среди них».
Не могу сказать, как долго мы еще прожили в Элкхорне; пустившись в путь, мы ехали два дня в повозках, запряженных лошадьми, до реки Огайо, где отец купил три плоскодонные лодки с бортами, запятнанными кровью и продырявленными пулями. Должно быть, они раньше принадлежали белым, которых застрелили индейцы. В одной из лодок разместили лошадей и быков, вторую нагрузили постелями, мебелью и разной утварью, а в третью село несколько негров. Лодку со скотом и ту, где разместилась вся наша семья, связали вместе, а третья с неграми плыла позади. Мы спустились вниз по Огайо и через два-три дня добрались до Цинциннати. Но тут посредине реки лодка с лошадьми и быками вдруг начала тонуть. Отец, увидев, как она погружается в воду, перескочил в нее и перерезал поводья; освободившись, животные вплавь достигли противоположного берега в штате Кентукки. Люди из Цинциннати выехали нам на помощь на своих лодках, но отец сказал им, что скот уже спасен. За день мы добрались от Цинциннати до устья реки Биг-Майами, где намеревались обосноваться. note 2 (Здесь и далее в квадратных скобках курсивом дан перевод А. С. Пушкина. См. А. С. Пушкин, Соч., ГИХЛ, М., 1950, т. 5, стр. 343-368.) Затем, наказав мачехе не выпускать из дома никого из малышей, [пошел он засевать поле с своими неграми и старшим моим братом.
Нас осталось дома четверо детей. Мачеха, чтоб вернее меня удержать, поручила мне смотреть за младшим, которому не было еще году. Я скоро соскучился и стал щипать его, чтоб заставить кричать. Мачеха велела мне взять его на руки и с ним гулять по комнатам. Я послушался, но не перестал его щипать. Наконец она стала его кормить грудью, а я побежал проворно на двор и ускользнул в калитку, оттуда в поле. Be в далеком расстоянии от дома, и близ самого поля, стояло ореховое дерево, под которым бегал я собирать прошлогодние орехи. Я осторожно до него добрался, чтоб не быть замеченным ни отцом, ни его работниками… Как теперь вижу отца моего, стоящего с ружьем на страже посреди поля. Я спрятался за дерево и думал про себя: «Мне бы очень хотелось увидеть индийцев!»
Уж моя соломенная шляпа была почти полна орехами, как вдруг услышал я шорох. Я оглянулся: индийцы! Старик и молодой человек схватили меня и потащили. Один из них выбросил из моей шляпы орехи и надел мне ее на голову. ] Старика, как я потом узнал, звали Манито-о-гизик, а его сына — Киш-кау-ко. Позднее, возвратившись с реки Ред-Ривер, я побывал в Детройте, когда Киш-кау-ко сидел там в тюрьме. Поехал я также и в Кентукки, где узнал некоторые подробности похищения, ранее мне неизвестные. Оказалось, что у Манито-о-гизика незадолго до того умер младший сын, и жена заявила, что не переживет утраты, если ей не возвратят ребенка. Это означало, что ей должны привести пленника, которого она могла бы усыновить взамен погибшего, и только с этой целью Манито-о-гизик с сыном и двумя другими индейцами из его группы, жившей у озера Гурон, отправился на восток. У верхней части озера Эри к ним присоединились еще трое молодых людей (родичей Манито-о-гизика), и теперь они уже всемером двинулись к поселениям на берегу Огайо. Ночью накануне похищения они достигли устья Биг-Майами, переправились через Огайо и притаились поблизости от нашего дома. Но уже рано поутру старому Манито-о-гизику с трудом удавалось сдерживать горячность своих юных спутников. Не видя возможности выкрасть мальчика, они потеряли терпение и хотели обстрелять людей, сеявших кукурузу. Должно быть, наступил уже полдень, когда индейцы увидели, как я вышел из дома и направился к ореховому дереву, стоявшему, как видно, совсем рядом с тем местом, где они притаились. Через несколько минут после того, как я улизнул из дома, отец, вернувшись с поля, обнаружил мое исчезновение. Мачеха же еще не успела заметить, что я вышел. Старший брат тотчас кинулся к ореховому дереву, зная, как я любил туда ходить, и, увидев на земле орехи, выброшенные индейцем из моей шляпы, сразу понял, что меня похитили. Тотчас начали поиски, оказавшиеся безуспешными. Позднее мне рассказали, что отец сильно горевал, когда выяснилось, что меня увели индейцы.