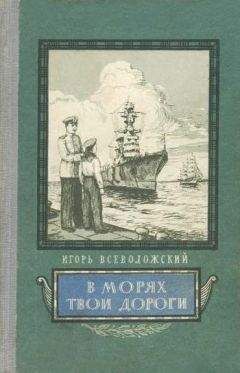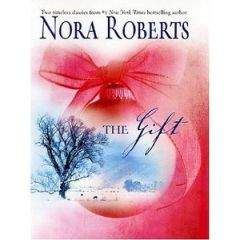Уходим завтра в море - Всеволожский Игорь Евгеньевич
— Шикарно, а? — спросил Фрол.
— Замечательно!
Это была настоящая офицерская каюта, удобная и уютная. Я с удовольствием сел в кожаное кресло, упругие пружины которого мягко подались.
— Пойдем, доложимся начальнику штаба, а после разыщем Фокия Павловича, — предложил Фрол.
Мы заперли наше жилище на ключ и поднялись по трапу. Разыскав каюту начальника штаба, попросили разрешения войти.
— Очень рад вас видеть, — сказал Андрей Филиппович.
Он постарел, морщинки разбегались от глаз к вискам и от уголков губ на чисто выбритые щеки. В густых волосах появилась серебряная прядь.
— До чего же быстро бежит время! — воскликнул он. — Давно ли вы были мальчуганами? Мне кажется, это было вчера… — Он покачал головой. Я вспомнил слова Бату: «К закату жизни годы несутся непозволительно быстро и медленно текут в юности, когда человек поднимается в гору».
Нам с Фролом пребывание на старом, замаскированном ветвями пароходе казалось таким отдаленным временем, а наше производство в офицеры — таким далеким, сияющим будущим!
— Я предоставлю вам все возможности для проверки своих морских качеств, — пообещал Андрей Филиппович. — Словом, сделаю все, чтобы вы не теряли времени даром.
Поблагодарив начальника штаба, мы пошли разыскивать боцмана. Матросы, встречавшиеся нам на пирсе, были молодые и незнакомые. Но вот с одного из катеров соскочил здоровяк с шевронами на рукаве. Фрол окликнул его:
— Фокий Павлович!
— Фролушка! Да ты ли это, чертяка?
Боцман обнял Фрола и троекратно расцеловал.
— Рындин? Тоже молодец вырос!
Он облапил меня с нежностью большого медведя — у меня затрещали кости.
От Фокия Павловича пахло морем, кораблем, а его большие заскорузлые руки были в мазуте.
— Прошу ко мне на катерок в гости.
«Катерок» Фокия Павловича, конечно, не поразил нас. Но мы сочли долгом его расхвалить, и боцман расчувствовался. Катер содержался в образцовом порядке: даже самый строгий начальник ни к чему не мог бы придраться. Все сверкало, блестело, но Фокий Павлович то и дело проводил пальцем по борту или по рубке и внимательно рассматривал палец: нет ли пылинки?
На катере Фокия Павловича, как на всех «тэ-ка», можно было найти все, что бывает на настоящем военном корабле: крошечный кубрик с матросскими койками, с откидным столом и с зеркальцем на переборке, игрушечную офицерскую каюту с мягким диваном и миниатюрным письменным столиком; крохотную радиорубку; в моторном отсеке — моторы, трубы, радиаторы, ящики аккумуляторных батарей, баллоны со сжатым воздухом.
Мы поднялись в командирскую рубку, потом вышли на мостик.
— Катерок флагманский, изволили заметить? — с гордостью спросил Фокий Павлович. — Сам командир соединения со мной на нем ходит. А ты помнишь, Фролушка, как меня да Виталия Дмитриевича поранило, а ты…
Друзья погрузились в воспоминания. Перебивая друг друга, хлопая один другого по плечу и глядя заблестевшими глазами, они сыпали фамилиями и именами матросов и офицеров: «Борисов, — пишет, — машинно-тракторной станции директор»; «Григорьев у себя в колхозе стал Героем Социалистического Труда»; «а Сашко и сейчас тут, ты его повидай, Фролушка, он часто тебя вспоминает». «Цибулькин женился, двое ребят — мальчуган и девчонка. Живут на Корабельной — пойдем к ним в гости»; «Корнев в училище пошел — в офицеры шагает».
Когда всех перебрали, всех вспомнили, Фокий Павлович принялся рассказывать, как воевал под Констанцей, рассказывал красочно, образно, в лицах и не особенно стеснялся в выражениях, когда дело дошло до фашистов.
— Ты уж, Фролушка, со мной иди в море. Не подведу, — сказал в заключение боцман.
Обед прошел непринужденно и весело. Кроме нас, у отца были Андрей Филиппович и замполит Щукин, совсем молодой на вид капитан второго ранга, с русыми волосами, разделенными пробором, и мягкими усиками, похожими на пух.
После обеда отец достал пачку книг и тетрадей.
Забравшись в каюту, мы до самого ужина читали записи в толстой тетради.
«Если в наше время, — писал отец, — даже никому не известный молодой лейтенант предложит проект нового вида вооружения, командование немедленно заинтересуется им и сделает все, чтобы молодой изобретатель мог осуществить свое изобретение. Проект двадцативосьмилетнего лейтенанта Макарова поражал своей дерзкой, расчетливой смелостью: в 1876 году он предлагал вооружить малые катера взрывающимися при ударе в борт корабля шестовыми минами. Он предусмотрел и переоборудование одного из быстроходных кораблей под базу минных катеров. Таким образом, катер, потопивший вражеский корабль, мог быть быстро поднят на борт базы. Высокопоставленные чиновники Главного адмиралтейства сочли проект лейтенанта безрассудным, хотя отпускали большие деньги на действительно безрассудные выдумки.
Тогда Макаров подобрал добровольцев, согласившихся идти на риск. Не спрашивая разрешения начальства, он переоборудовал катер, к удивлению этого самого начальства атаковал турецкий броненосец и потопил его. Макарова наградили, но все же продолжали относиться к нему с недоверием. Он с трудом упросил отдать ему две недавно приобретенные самодвижущиеся мины, вооружил ими катер, — и еще один вражеский корабль пошел на дно. Это был первый военный корабль, потопленный торпедой, будущим грозным оружием войны на море.
За год до того, как Уайтхед объявил об изобретении им торпеды, кронштадтец Александровский, перед тем изобревший подводную лодку, представил в морское министерство проект самодвижущейся мины. Она была русским изобретением, а чиновники платили миллионы, покупая мины Уайтхеда.
В 1914 году минно-машинный кондуктор Лузгин приспособил торпеды для боевого применения с быстроходного катера и просил разрешения начальства атаковать немецкий корабль. Но ему было запрещено «заниматься не своим делом».
Только в советском Военно-Морском Флоте вплотную занялись вопросами создания «москитного флота»…
Отец в своих записках прославлял торпедные катера; отмечая, что служба на них тяжела, требует отличного здоровья, крепких нервов, выносливости, он утверждал, что эта служба приучает к хладнокровию, умению принять молниеносное, четкое решение.
«Скорость, наибольшая скорость и плавание в любых условиях, — вот чего я буду добиваться всю свою жизнь и заставлю своих подчиненных добиваться того же», — так заканчивал отец записи.
Пришел с моря Русьев и принялся экзаменовать Фрола. Фрол еле успевал отвечать. Виталий Дмитриевич остался доволен приемным сыном:
— Я вижу, ты не зря провел год в училище. А ну-ка, пойдем на катер!
Экзамен продолжался до вечера. На другой день Фрол пошел с Русьевым в море. Вернулись они довольные друг другом и с аппетитом принялись уничтожать оставленный им ужин.
— А ведь правильно я поступил, прогнав тебя с катеров в Нахимовское? — удовлетворенно сказал Виталий Дмитриевич, — ты отбрыкивался и упирался, хотел воевать. А теперь, небось, ты меня понял?
— Понял, Виталий Дмитриевич.
— Ешь мою порцию компота!
От сладкого Фрол никогда не отказывался.
Фрол вспоминал: «Вот здесь было когда-то кино, а здесь стоял большой белый дом и на подоконнике сидел белый шпиц; тут тоже был большой дом, дверь на балкон всегда была распахнута настежь, и в комнатах кто-то играл на рояле. А здесь был театр имени Луначарского, напротив — Северная гостиница».
Решили побывать на Корабельной. Спустились на Графскую пристань.
— Она две осады выстояла, — сказал Фрол. Да, она выстояла две осады!
Переправившись на ялике через бухту, мы поднялись по каменному трапу и пошли по узкой тропе под высокой стеной — за стеной был госпиталь, в котором в войну лежал мой отец. Сходили на Малахов курган, где Корнилов сказал русским матросам: «Умрем, но не отдадим Севастополь!» Здесь был смертельно ранен Нахимов, здесь был Корнилов убит… Солдаты и матросы держались здесь до последнего, и их подвиг повторили советские моряки… Они, уходя, поклялись вернуться. И в мае сорок четвертого года подняли над Малаховым курганом алое знамя победы…