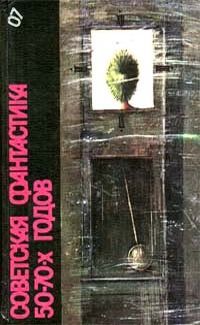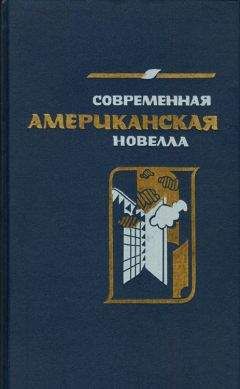Генри Торо - Американская повесть. Книга 1
Он не сразу пришел в себя. Потом безотчетным движением опустил лицо в тихо струящуюся воду и поднялся обновленный, с прояснившейся головой. Полубезумная мысль о самоубийстве отступила, ушла; ее сменила новая отчаянная решимость. Так вот для чего он вернулся сюда, вот для чего взял ружье, вот для чего приплыл к дому!
Он лег на дно челнока и стал отрывать от зыбкого берега крупные комья земли, пока не заполнил ими суденышко и не погрузил его в воду почти по борта. Потом, загребая руками, как веслами, он бесшумно угнал его с открытого места, словно бревно на плаву, и укрыл за грядою кустарника. Оглядев быстрым взглядом низину, он схватил ружье, выбрался на оседавший под ногой берег и, пригнувшись, а кое-где и ползком, стал пробираться сквозь камыш и болотные травы вперед по направлению к «кустам». Всякий другой, незнакомый, как он, с Болотом, конечно, ушел бы по плечи в черную жижу. Справа в зарослях затрещали сухие сучья под конским копытом. Значит, Кальверт, оставив коня, привязал его к крайней ольхе.
Подойдя к дому, он не стал подниматься по скрипучим ступеням, а по сваям, поддерживавшим заднюю часть галереи, бесшумно забрался наверх. Этим самым путем год назад взбирался и тот дезертир, и, подобно ему, Джим увидел теперь и услышал все, происходившее на галерее и в комнате. Кальверт стоял у распахнутой двери, как бы прощаясь. Мэгги стояла напротив, заслоняя шедший из комнаты свет; лицо ее оставалось в тени, крепко стиснутые руки она прятала за спиной. А вокруг, во всем, в них самих, была печаль угасавшего дня и глубокая сердечная скорбь. Непонятная дрожь охватила Джима Кульпеппера, его яростная решимость пропала, и влага затмила туманом глаза.
— Если я расскажу вам, почему так уверен, что все это пройдет и ваш брат станет прежним, — сказал Кальверт грустно, но с обычным спокойствием речи, — то открою тем самым и долю того, о чем вы велите молчать. Когда я впервые увидел вас, то и сам вел беспутную жизнь, еще менее простительную для меня, ибо был уже искушен и знал цену порока. Когда я узнал вас и подпал под влияние вашего ясного, чистого взгляда на жизнь, когда я увидел, что одиночество, однообразие дней, людское неверие, даже тяжкое чувство, что ты ведь достоин иной, лучшей жизни, — все это можно сломить, побороть без жалких мечтаний, без недостойных забав, я полюбил тогда вас — умоляю, услышьте меня, мисс Кульпеппер, — и вы, вы спасли меня, человека, для вас безразличного, так же как спасете теперь — я глубоко в это верю — своего любимого брата, которому вы так преданы.
— Но ведь я погубила его, — возразила она с горечью. — Чтобы спастись от монотонности наших дней, от нашего одиночества, я побудила его искать этих недостойных забав и отдаться жалким — вы правы! — жалким мечтаниям.
— Нет, в том не ваша вина, не такова ваша природа, — молвил он тихо.
— Моя природа! — вскричала она отчаянно, почти бешено, и в том был, кажется, отклик на нежность, прозвучавшую в его последних словах. — Моя природа! Что знаете вы о ней и что знает он?! Я скажу вам сейчас, чего требовала моя природа, — страстно продолжала она. — Отомстить вам всем за жестокость, за подлость и зло, причиненное мне, моим близким тогда и теперь. Расплатиться сполна за оклеветанного отца, за ту ночь, что мы с Джимом провели на Болоте одни у его мертвого тела. Вот что гнало меня в Логпорт… желание… да… поквитаться… подразнить вас всех и… потом одурачить. Вот, вы знаете все. И что же теперь, когда Бог покарал меня, погубив моего несчастного брата, вы хотите, чтобы я… чтобы я позволила вам погубить и меня?
— Нет, — пылко сказал он, подавшись вперед, — вы жестоки ко мне… И еще более жестоки к себе.
— Ни шагу! — приказала она, отступая и по-прежнему пряча крепко стиснутые руки у себя за спиной. — Ни шагу! Вот так! — Она уронила руки и выпрямилась. — Поговорим о Джиме, — сказала она холодно.
Он глядел на нее, словно не слыша, что ему говорят, и во взгляде его была безнадежность и грусть.
— Зачем вы внушили брату, будто вы влюблены в Сесили Престон?.. — нетерпеливо спросила она.
— Иначе мне пришлось бы признаться ему в безнадежной страсти к его сестре. Вы горды, мисс Кульпеппер, — добавил он, и в его голосе впервые послышалась горечь. — Почему вы отказываете в этом чувстве другим?
— Нет, — коротко возразила она. — Это не гордость, а малодушие. Вы могли сказать ему правду. Сказать, что нет и не будет ничего общего между семейством этой девицы и такими дикарями по природе и по привычкам, как мы, что нас отделяет пропасть, такая же бескрайняя и черная, как это Болото; а если они, забавляясь, придут к нам однажды, как приходит прилив, Болото их не отпустит, поглотит их навсегда. А если бы Джим не поверил вам, вы могли бы рассказать о себе. Сказать ему все, что сказали мне. Что вы, светский человек, офицер, вообразили вдруг, что полюбили меня — необузданную и темную дикарку, и я, не столь беспощадная к вам, как вы ко мне и к нему, отвергла ваши признания, чтобы не связать вас навеки с собой и не увлечь вас в Болото.
— Вы могли не говорить всего этого, мисс Кульпеппер, — сказал Кальверт все с той же тихой улыбкой, — я знаю и так, что во всем ниже вас, кроме лишь одного…
— Кроме чего? — быстро спросила она.
— Кроме моей любви.
Сейчас его лицо напряглось и застыло, как у нее; он медленно повернулся к двери, потом снова замер.
— Вы хотите, чтобы я говорил только о Джиме. Так вот, слушайте. Я склонен думать, мисс Престон любит его в той, разумеется, мере, в какой любовь вообще доступна ее ветреной юной натуре. Так что, лишая его надежды, я обманул бы его, а обман — он жесток, толкает ли нас любовь или то, что мы называем рассудком. Если мои слова могут его спасти, молю вас, будьте милосердней к нему, чем были ко мне и — смею ли это сказать? — к себе самой тоже.
Все еще держа кепи в руке, он медленно шагнул за порог.
— Я уезжаю завтра в бессрочный отпуск и, наверное, никогда не вернусь. Потому не поймите меня превратно, если я повторю вам то, что твердят все ваши друзья в Логпорте. Они просят вас возвратиться к ним, не оставаться здесь, в этом доме. Они любят и ценят вас, невзирая на вашу гордость, или нет, вернее сказать, благодаря вашей гордости. Доброй ночи и до свидания.
Обернув застывшее лицо к окну, она сделала легкое мгновенное движение, словно хотела вернуть его, но дверь напротив скрипнула, и в комнату тихо вошел ее брат. Мелькнуло ли у нее воспоминание о дезертире, который год тому назад вошел в эту самую дверь, или что-то в тот миг странным образом поразило ее в заляпанной грязью одежде и в несмелой, молящей улыбке брата, или то был отблеск отчаянной борьбы, шедшей в ее душе, но едва он взглянул ей в глаза, как улыбка его погасла и, моля о прощении, испуганный, он рухнул к ее ногам. Суровость ее пропала, она обняла его, и их слезы смешались…