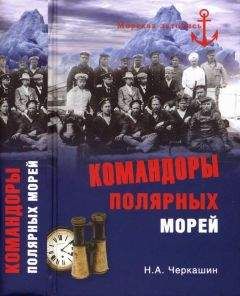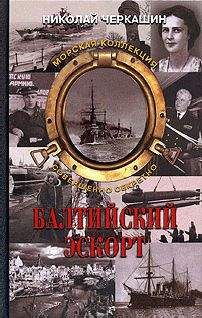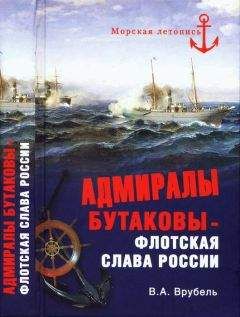Николай Черкашин - Адмиралы мятежных флотов
Забрать бы Ольгу с Люсей и махнуть в псковскую глухомань, в отцовский дом, в именьице, в деревню. Забыть все оперативные планы, секретные директивы и фарватеры, сводки и директивы, телеграммы, шифрограммы, юзограммы… К чертовой матери все! Начать новую жизнь. Тихую счастливую жизнь, какой живут миллионы простых смертных… Чтобы никто не смел звонить или стучать в дверь, чтобы никто не тянулся, не заискивал, не бледнел при его появлении, не дерзил и не раболепствовал… Жить, не опасаясь стального осколка в лоб или пули в спину. Ходить, как все, к обедне и всенощной, бывать в гостях и принимать гостей, нанять Люсе учительницу-француженку, выписать Оленьке настоящую шубу от Фратенара вместо ее облезлой душегрейки, подарить всем сестрам по золотому медальону с портретом единственного брата, положить отцу, матери и нянюшке мраморные плиты на могилы…
А флот? Флот, разбросанный от устья Ботники до Рижского штранда, флот, прикрывший Ригу, а с ней и путь на Псков - ключ-город к Питеру? Да что Псков, коли кратчайшая дорога к столице - напрострел! - лежит по воде, по морю, через Финский залив, - кому препоручить этот флот, собравший в свои башни и рубки, палубы и казематы, трюмы и кочегарки самых толковых и самых здоровых парней с новгородских фабрик да псковских кузниц, с заводов Питера и Москвы, вологодских угодий да архангелогородских лесопилок, с самых древних и лучших российских, белорусских, украинских земель?
Как бросишь все, когда именно сегодня приснился ему эссенский сон?
«Господа! - возгласил он за завтраком любезным сотрапезникам. - Как-то Николай Оттович признался мне, что раз в месяц видит один и тот же сон, после которого просыпается в холодном поту. А сон таков: будто бы линейный крейсер «Мольтке» или «Гнейзенау» входит в устье Невы и бьет оттуда прямой наводкой по Петропавловской крепости, по Адмиралтейству, Бирже, Зимнему…Так вот, мне, господа офицеры, приснился эссенский сон: покойница «Ундина»1 - черт его знает, почему именно эта калоша, а не «Шарнхорст» - прошла сквозь все наши заслоны, встала к Николаевскому мосту и взяла на прицел Зимний. Так что можете меня поздравить, други мои: с этим сном Николай Оттович лично передоверил мне флот…»
Говорят, человек дважды тянет свой жребий: в отрочестве и в зрелых летах. Оглядываясь лет в сорок пять на прожитую половину жизни, человек наконец постигает все то, что было предсказано, предписано, приуготовлено ему в первом билете фортуны.
Адриан Иванович живо представил себе этот листок, будто бы вытащенный ему, пятнадцатилетнему юноше, попугаем турка-гадальщика, что ходил в ту пору по дворам Васильевского острова. Эх, с каким бы нетерпением, с какой страстью развернул бы он тот листок… «Ну что там, что?…»
«А суждено тебе, юноша, исполнение всех главных твоих мечтаний. Быть тебе храбрым моряком, офицером, командиром корабля, адмиралом-флотоводцем. Украсишь грудь свою знаком высшей воинской доблести - крестом Святого Георгия и стяжаешь многих других боевых орденов.
И будет тебе счастье в боях и походах. Все пули и осколки мимо тебя пролетят. Изведаешь радость побед и горечь плена. Удачлив будешь в сражениях и битвах. Имя твое врагом уважено будет за воинское искусство и отвагу твою.
Повидаешь ты страны диковинные и моря-океаны. Сбережен будешь от волн и пучины, от ветра разбойного и камня подводного.
Нужды в деньгах не узнаешь. Друзей будет много и добрых, и верных. И женщин немало душу и тело свое откроют тебе. И выберешь среди них ту, что по сердцу, и поведешь под венец…»
А на обороте что?
«…Не знать тебе дома своего до сорока пяти лет и не иметь детей своих…»
И все равно - счастливый билет. Но редко кому два счастливых билета подряд… Вот и тебе, Адриан, черный выпал. Смертный… И не будет тебе никакой второй половины жизни… Только две пули в спину да потаенная могила… Да долгое забвение.
Прими!
…Вдруг открылись звезды - высоко, ясно, строго, ничуть не замутненные низовой пургой. Они стояли над гельсингфорсским рейдом точь-в-точь как над Гефсиманским садом, предрекая очередную жертву и очередной подвиг. Что им было до того, что новый агнец не в белом хитоне, а в черной адмиральской шинели? Что им до того, что вокруг лежала не синайская пустыня, а ледяное поле Венедского моря, и не среди мирт и смоковниц - среди мачт, труб и орудий маячила на мостике одинокая фигура того, кто должен был пополнить в нынешний полдень легион принявших смерть за други своя?…
Прежде чем спуститься с мостика, Непенин еще раз обежал глазами панораму вмерзших кораблей.
Что это?
На мачте «Императора Павла I» зажегся красный клотиковый огонь.
Какого черта, он же не в боевом дежурстве?!
Но красный огонь затлел и на гроте «Андрея Первозванного». Шаровой молнией перекинулся он на «Славу» и «Цесаревича». От бригады линейных кораблей самовольные красные огни перебежали на клотик крейсеров - «России», «Дианы», «Громобоя»…
Два сухих винтовочных выстрела рванули тишину рейда. Затем пальнули еще. И еще целая россыпь торопливых, беспорядочных, злых, предательских выстрелов… Стихло и снова сыпануло ружейной пальбой - с «Андрея» и «Павла»…
Непенин ринулся вниз по обледеневшим трапам… В рубку, в коридор, в салон… Столкнулся с Ренгартеном, застегивавшим на бегу китель.
- Дайте мне диспозицию флота на рейде!
Ренгартен расстелил схему корабельных стоянок. Склонились над нею втроем: Непенин, Ренгартен и подоспевший Черкасский… Довконт крутил ручку телефонного магнето. «Первозванный» не отвечал. Молчал и «Павел».
- Вызывайте первую бригаду! - бросил Непенин.
Князь и Ренгартен мрачно переглянулись. Назревал бой. Морской бой вмерзших дредноутов. Дуэль в упор. Безумие!
По диспозиции стрелять по мятежным кораблям могли только линкоры первой бригады, которой командовал контр-адмирал Бахирев: «Петропавловск», «Гангут», «Севастополь» и «Полтава». Бахирев не станет сомневаться: стрелять - не стрелять. Бахирев - железная рука, стальная воля. Бахирев просто младший флагман, но и старый друг…
- Бахирев на проводе! - Довконт протянул трубку комфлоту.
Тот оторвал глаза от секторов обстрела. Взял трубку, точно спущенную с чеки гранату, покачал в крепкой рыжеватой поросли руки и тяжело положил на рычаг отбоя.
- Нет. Я русской крови не пролью.
Историки страны Советов старательно избегали подробностей того, что случилось на русских линкорах в ночь на 4 марта. До самых последних дней партийной цензуры свидетельские строки командира линкора «Андрей Первозванный» Георгия Гадда так и не увидели свет в советской печати, пролежав в сейфах спецхранов с 1922 года по 1992-й. Что толку в свидетельских показаниях спустя семь десятилетий? Но если все это время длилось преступление, значит, важно и сегодня знать, как оно начиналось…