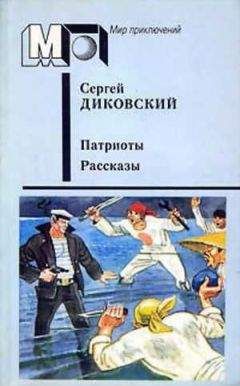Сергей Диковский - Приключения катера «Смелого»
Гуторов приказал выбрать конец. Канат пошел плавно, но так туго, что затрещали волокна. Лебедка намотала на барабан метров сорок гарпунного каната, и вскоре мы увидели, как, оторвавшись от дна, медленно поднимается огромная глыба, заросшая водорослями.
— Хозяин! Ах, чорт! — сказал шопотом Косицын.
Мы подтянули убитого сивуча к борту. Там, где шея переходит в грудь, торчал конец ружейного гарпуна. «Хозяин» лежал в зеленой тине, открыв пасть, и вода обмывала ему желтые клыки, и ребристую лиловую глотку и выпуклые злые глаза под стариковскими бровями. А на боках и спине зверя, точно водоросли, шевелились густые рыжие волосы. Он был очень красив даже мертвый.
Рында продолжала тихонько звякать в тумане. Мы вытащили мертвого сивуча, завели мотор кавасаки и пошли прямо на звук, ведя за собой опустевшую шлюпку.
Между тем утренний бриз нажимал с моря все сильней и сильней, отгоняя туман в сопки. Над нами появились голубые просветы, и боцман, опасаясь, что захват кавасаки будет обнаружен раньше, чем нужно, приказал прибавить ход.
Мы шли прямо на колокол и вскоре стали различать сквозь гудение меди глуховатый стук мотора, включенного на холостую. У Гуторова был отличный слух. С закрытыми глазами он без ошибки отличал «зульцер» от «мана» или «икагай» от «болиндера». Он прислушался и твердо сказал:
— «Фербенкс». Сил девяносто.
Очевидно, на шхуне услышали шум кавасаки, потому что колокол умолк и кто-то окликнул нас (впрочем, без всякой тревоги):
— Даре дес ка?[48]
— Тише, тише… — сказал Гуторов.
Мы продолжали итти полным ходом.
— Даре дес ка?
Косицын взял отпорный крюк и перешел на нос, чтобы зацепиться за шхуну. Остальные стояли наготове вдоль борта.
Пауза была так длинна, что на шхуне забеспокоились. Кто-то тревожно и быстро спросил:
— Аннэ? Акита?!
Молчать дальше было нельзя. Мы услышали незнакомые слова команды и топот босых ног.
— Ну, смотрите, что будет, — сказал топотом Туторов.
Он откашлялся, сложил ладони воронкой и крикнул, застуженным, сипловатым баском:
— Сорева ватакуси… тете моте![49]
Это было сказано по всем правилам — скороговоркой и слегка в нос, по-токийски. На шхуне сразу успокоились и умолкли.
— Вот и все, — просипел боцман.
Он был очень доволен и подмигивал нам с таинственным и значительным видом бывалого заговорщика.
В эту минуту мы услышали ворчанье лебедки и мерное клацанье якорной цепи. Одновременно свободные перестуки мотора перешли в надсадный гул, недалеко от нас сильно зашумела вода. Шхуна уходила от берега, не дождавшись своих зверобоев.
Вода еще выпучивалась и шипела, когда мы подошли к месту, где только что развернулась шхуна.
— Самый полный! — сказал Гуторов. — Дайте сирену?
Мы помчались вслед за беглянкой по молочной пузыристой дороге. Мотор кавасаки был слишком изношен и слаб, чтобы состязаться с «фербенксом», но мы знали, что «Смелый» дежурит у кромки тумана, и, непрерывна сигналя, продолжали преследовать шхуну.
Сначала след был отчетливый. Шхуна шла курсом прямо на ост, очевидно рассчитывая поскорее выбраться из тумана.
Стук мотора становился все глуше и глуше, вода перестала шипеть, и только редкие выпучины отмечали путь корабля Шхуна заметно отклонялась на юг. И это-было понятно: услышав шум «Смелого», который двигался параллельно японцам по кромке тумана, хищники медлили выйти из надежного укрытия.
Так мы шли около получаса: «Смелый» под солнцем, вдоль кромки тумана, шхуна параллельно катеру, но вслепую, а за хищником, едва различая след, плелась-наша кавасаки со шлюпкой на буксире.
Потом мы увидели гладкий широкий полукруг — след крутого разворота; шхуна внезапно повернула на север. В ее положении то был единственно верный маневр. Мы убедились в этом, как только вышли из тумана и увидели большую голубую шхуну с тремя иероглифами на корме.
Прежде чем «Смелый» разгадал хитрость японцев и лег на обратный курс, то есть на норд, шхуна выгадала десять минут, а если перевести на скорость — не меньше двух миль. Этого было достаточно, чтобы уйти за пределы запретной зоны.
Тут мы заглушили мотор и первый раз в жизни стали наблюдать со стороны, как «Смелый» преследует хищника.
Проскочив вперед, катер вскоре повернул обратно и полным ходом пошел наперерез шхуне. Было видно, как у форштевня «Смелого» растут пенистые усы, как наш катер задирает нос и летит так, что чайки стонут от злости, машут крыльями, не могут догнать и садятся отдыхать на волну.
Сачков взял от мотора, что мог. Если представить море в виде шахматного поля, катер мчался, как ферзь, а шхуна ползла, точно пешка. Беда была в том, что пешка уже подходила к краю доски и сама становилась ферзем. За пределами запретной трехмильной зоны сразу кончалась погоня. И все это потому, что кавасаки спугнул шхуну в тумане.
* * *— Это «Майничи-Мару», — сказал Гуторов. — «Майничи-Мару» из Кобэ.
Боцман хмуро разглядывал палубу. «Смелый» не спеша вел к Петропавловску кавасаки с тремя японцами, а все свободные от вахты стояли на баке и провожали глазами далекую шхуну.
— Благодарю, — сухо сказал лейтенант. — Очень рад, что вы такой зоркий…
— Я, товарищ командир…
— Знаю, знаю, — ворчливо сказал Колосков и стал выколачивать о каблук холодную трубку. — Никто не виноват. Все герои с крючка щуку снимать. И вообще, что за чорт? На пулемете чехол хуже портянки, лебедка облуплена…
Все мы ждали, что боцмана ждет разнос. У командира медленно багровела шея, но он взял в зубы пустую трубку и, пососав, неожиданно заключил:
— Всё отчего? В грамматике дали осечку… Надо бы учтивый глагол… А вы… сразу ватакуси… Эх, жмет!
— А что им за это будет? — спросил Косицын, с любопытством поглядев на зверобоев.
— Лет пять… А скорей всего, обменяют, — объяснил Широких. — Сидя на корточках, он очищал раскрылки гарпуна от сухожилий и кожи мертвого сивуча.
— Значит, гражданские будут судить, — сказал Косицын с досадой.
— А тебе что?
— Ничего… Эх, какого быка загубили!..
И все мы посмотрели на старого сивуча.
«Хозяин» лежал на палубе кавасаки, большой, гладкий, усатый, и смотрел в море злыми глазами.
Он был очень красив далее мертвый.
На маяке
Представьте чудо: на спелом, наливном помидоре вдруг выросли обкуренные махоркой усы, засеребрился бобрик, взметнулись пушистые брови, потом обозначился мясистый нос, блеснули в трещинках стариковские голубые глаза, и помидор, открыв рот, прошипел застуженным тенорком: