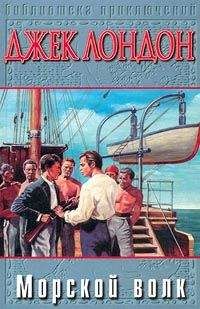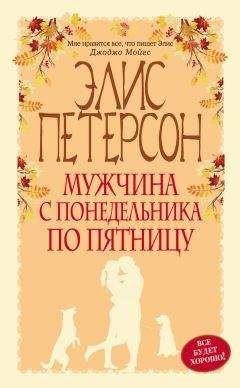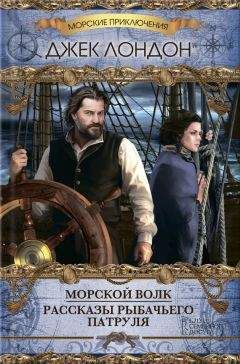Джек Лондон - Морской волк. Бог его отцов
Цена жизни! Как я мог точно назвать ее? Я, привыкший ясно и свободно излагать свои мысли, в присутствии Ларсена не находил нужных слов. Впоследствии я объяснял себе это воздействием его сильной личности, но главная причина была в полной противоположности наших точек зрения. В отличие от других встреченных мною материалистов, с которыми я всегда находил общий язык, с этим у меня не было абсолютно ничего общего. Быть может, он поражал меня стихийной простотой своего ума. Он всегда приступал к самой сути дела, отбрасывал все ненужные детали и говорил с такой решительностью, что я тотчас терял почву под ногами. Цена жизни! Как мог я тут же ответить на этот вопрос? Что жизнь священна — я принимал как аксиому. Что она бесконечно ценна — было истиной, которую я никогда не подвергал сомнению. Но когда это сомнение высказал он, я растерялся.
— Мы с вами беседовали вчера, — сказал он. — Я сравнивал жизнь с закваской, с дрожжевым грибком, который пожирает жизнь, чтобы жить самому, и говорил, что жизнь просто преуспевающее свинство. Если смотреть с точки зрения спроса и предложения, то жизнь — самая дешевая вещь на свете. Количество воды, земли и воздуха ограничено, но жизнь, которая может быть рождена, безгранична. Природа расточительна. Возьмите рыб с миллионами зерен икры. Подумайте о себе и обо мне. В нас тоже заложены возможности миллионов жизней. Если бы мы имели время и случай использовать каждую частицу содержащейся в нас нерожденной жизни, мы могли бы стать отцами народов и населить целые материки. Жизнь? Пустое! Она ничего не стоит. Из всех дешевых вещей она самая дешевая. Природа рассыпает ее щедрой рукой. Где есть место для одной жизни, там она сеет тысячи, и везде жизнь пожирает жизнь, пока не остается лишь самая сильная и свинская.
— Вы читали Дарвина, — заметил я. — Но вы плохо поняли его, если думаете, что борьба за существование оправдывает произвольное разрушение вами жизней.
Он пожал плечами.
— Вы, очевидно, говорите лишь о человеческой жизни, так как зверей, птиц и рыб вы уничтожаете не меньше, чем я или любой другой человек. А между тем с человеческой жизнью дело обстоит точно так же, хотя вы и смотрите на нее иначе. Зачем мне беречь эту жизнь, раз она так дешева? Матросов больше, чем кораблей на море для них, и рабочих больше, чем хватает для них фабрик и машин. Вы, живущие на суше, отлично знаете, что, сколько бы вы ни поселили бедняков в городских трущобах и сколько из них ни умерло бы от голода и эпидемий, их остается все больше и больше, они умирают, не имея корки хлеба и куска мяса (то есть той же разрушенной жизни), и вы не знаете, что с ними делать. Видели вы когда-нибудь, как лондонские грузчики дерутся, словно дикие звери, из-за возможности получить работу?
Он направился к трапу, но повернул голову, чтобы сказать что-то напоследок.
— Знаете ли, единственная цена жизни — это та, которую она дает себе сама. И конечно, жизнь преувеличивает свою цену, так как она неизбежно пристрастна в свою пользу. Возьмите этого матроса, которого я держал на реях. Он цеплялся там, как будто он был чем-то необычайно драгоценным, сокровищем дороже бриллиантов или рубинов. Для вас? Нет. Для меня? Ничуть. Для самого себя? Да. Но я не признаю его оценки, он жестоко переоценивает себя. Бесчисленные новые жизни ждут своего рождения. Если бы он упал и разбрызгал свои мозги по палубе, словно мед из сотов, мир от этого ничего не потерял бы. Он не имел для мира никакой цены. Предложение слишком велико. Только для себя он имел цену, и, чтобы показать, как обманчива такая оценка, я укажу вам на то, что мертвый он не сознавал бы, что потерял себя. Он один ставил себя выше бриллиантов и рубинов. Бриллианты и рубины пропадут, рассыплются по палубе, их смоют ведром морской воды, а он даже не будет знать об их исчезновении. Он ничего не теряет, так как с потерей самого себя он утрачивает и сознание потери. Теперь вы видите? Что же вы можете сказать?
— Что вы, по крайней мере, последовательны, — ответил я.
Это было все, что я мог ответить, и снова занялся мытьем тарелок.
Глава VII
Наконец после трех дней переменчивых ветров, мы поймали северо-восточный пассат. Я вышел на палубу, хорошо выспавшись несмотря на боль в колене, и увидел, что «Призрак» летит, как на крыльях, и все паруса на нем подняты, кроме кливеров. В корму дул свежий бриз. Какое чудо эти мощные пассаты! Весь день мы шли вперед, и всю ночь, и следующий день, и так изо дня в день, а ветер, ровный и сильный, все время дул нам в корму. Шхуна сама управляла своим ходом. Не надо было тянуть и травить всевозможные снасти, не надо было перекидывать марселя, и у матросов не было другого дела, кроме дежурств у руля. Вечерами, после захода солнца, паруса немного спускали; а по утрам, дав им просохнуть после росы, снова натягивали, — и это было все.
Мы делали то десять, то двенадцать, то одиннадцать узлов. А попутный ветер все время дул с северо-востока и передвигал нас за сутки на двести пятьдесят миль по нашему пути. Мне было и больно, и радостно думать о том, что мы все дальше уходим от Сан-Франциско и в то же время приближаемся к тропикам. С каждым днем становилось заметно теплее. Во время второй дневной вахты матросы выходят на палубу, раздеваются и окатывают друг друга морской водой. Начинают появляться летучие рыбы, и ночью вахтенные носятся по палубе, убивая тех из них, которые падают на шхуну. А утром из камбуза распространяется приятный запах жареной рыбы. Иногда же все лакомятся мясом дельфина, когда Джонсону удается поймать с бушприта одного из этих сверкающих красавцев.
Джонсон проводит там все свое свободное время или же забирается на реи и смотрит, как «Призрак», гонимый пассатом, рассекает воду. Страсть и упоение светятся в его глазах, он ходит как в трансе, восхищенно поглядывает на раздувающиеся паруса, на пенистый след корабля, на его бег по зеленым горам, которые движутся вместе с нами стройной процессией.
Дни и ночи полны блаженства, и хотя мне трудно оторваться от моей скучной работы, я все же стараюсь улучить минутку, чтобы полюбоваться бесконечной красотой, о существовании которой я даже и не подозревал. Над нами чистая лазурь неба, синего, как само море, которое впереди принимает оттенки голубоватого шелка. На горизонте тянутся белые, перистые облака, неизменные, неподвижные, точно серебряная оправа безупречного бирюзового свода.
Никогда не забуду я одну ночь, когда, вместо того чтобы спать, я лежал на площадке над баком и смотрел на волшебную игру пены, разбиваемой носом «Призрака». Я слышал звук, напоминавший журчание ручейка по мшистым камням. Он манил меня и увлекал за собой, пока я не перестал быть юнгой Горбом и ван Вейденом, человеком, промечтавшим тридцать пять лет своей жизни за книгами. Меня пробудил раздавшийся за мною голос Вольфа Ларсена, сильный и уверенный, но мягко и любовно произносивший слова: