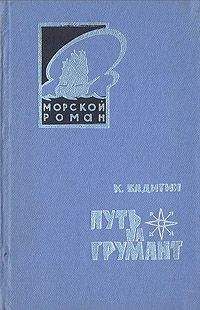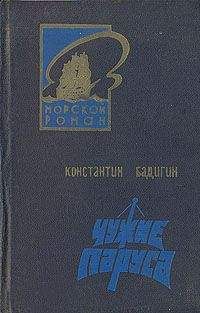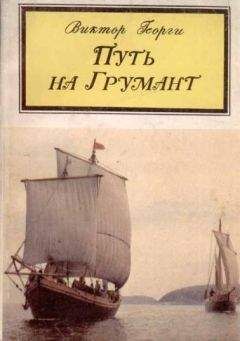Константин Бадигин - Путь на Грумант; Чужие паруса
Обрадованный Степан снова взялся за привратника.
— «Никто не уходил, никто не приходил»! — передразнивал он старика. — А трое из скита сбежали…
— Винюсь, не вмени оплошку за грех, прости, — захныкал старец. — Заспал я, одначе слышал, как засовом гремели. Проснулся, да поздно. А сказать не посмел. Боялся гнев на себя навести. Крутенек на расправу отец Сафроний, ох как крутенек.
— Мне прощать тебя нечего, — ответил Степан. — Покажи–ка лучше, отец, погреб, где у вас человек на чепи сидел. Пойдем, Яков, взглянем.
Дверь в землянку оказалась открытой настежь. Сафроний, нахмурясь, рассматривал цепи. У стенки жались оставшиеся в живых старцы. Они охали и ахали на все голоса.
— Утек злодей, — стонал Аристарх, — что теперя киновиарху скажем?
— Семь бед, один ответ. — Сафроний волосатой рукой перебирал ржавую цепь.
— Перепилил, аспид, чепь… А напилок свой человек дал, вот что, отцы любые, страшно, — плутоватые глазки игумена забегали.
— Эхм, ех, — скулил нарядчик, — в моленную бы его, крамольника… Ему бы с праведными в царствии небесном куда бы как хорошо. Оплошку брат городничий дал.
Сафроний укоризненно взглянул на испуганное лицо отца городничего, но смолчал.
Степан осмотрелся. С деревянных стен почерневшего сруба сочилась гниль. Все было покрыто плесенью. Каменный стол и каменные лавки блестели, отшлифованные узником. Вместо постели еще три камня, покрытые полустертой кожей. Оконце маленькое, выходило к глухой стене коровника. В углу из дикого камня и глины сложено подобие небольшой печи.
Степан сунул руку в рванину, лежавшую на постели, и тотчас с отвращением отдернул — там копошились вши.
— Злодеи, — сдерживая кипевшую ярость, сказал Степан, — по какому праву живого человека мучили? Отвечай, большак! — От гнева лицо Степана покрылось красными пятнами.
— А где твоя правда в скиту спрашивать, а? — выступил вперед Аристарх. Его бородка тряслась от злости. — Может, по слову государыни правеж учинишь, а? Колодники, рваные ноздри, нет вам в скиту места.
— Здесь наша большина, — спокойно сказал Яков Рябой, — не моги супротивничать. Ишь, святые, начудодеяли, людей сожгли, а сами целы. У нас разговор короткий, — оборвал он, — враз плетей попробуешь.
— Плетей?! — взвизгнул Аристарх, размахивая высохшими руками. — Поцелуй пса во хвост, табашник, еретик… Я те порву поганую бороду!
— Чужую бороду драть — своей не жалеть, — все так же спокойно ответил Яков. — А что, Степан, — посмотрел он на товарища, — проучить разве? Хоть жаль кулаков, да бьют же дураков.
В глазах Рябого зажглись волчьи огоньки. Надулись жилы на загорелой шее. История принимала крутой оборот.
— Постой, постой, друг, — отстранил Рябого Петряй. — Я сам поговорю. Тебя отцом Аристархом кличут? — строго спросил он у старца.
— Тебе что за дело, насильник?
— А вот что: худо, где волк в пастухах, а лиса в птичницах. Марфутку–то помнишь? Старик отшатнулся.
— Что молчишь, али горло ссохлось? Ну–кось, дерни меня за бороду. — Малыгин выставил свою рыжую лопату. — Дерни, праведник, — наступал он на старика. — Ах ты, распутный бездельник, чтоб ты сгорел, проклятый! — плюнул ямщик, видя, что Аристарх спрятался за грузного большака. — Зацепи–ка еще Марфутку, тады живым не уйдешь.
Мужики засмеялись. Гнев отошел от сердца.
— Довольно тебе, Петряй, — вмешался Степан Шарапов, — поговорил, и ладно. Святым отцам и без нас вдосталь по шеям накладут…
Малыгин, мореходы и Яков Рябой вечером угощались хмельным медом. Большак Сафроний, желая задобрить мужиков, приказал выкатить из погреба две большие бочки.
— Степушка, — обнимаясь, говорил захмелевший Рябой, — не кручинься, друг. Ты море знаешь, а я в лесу хитер. Найду Наталью. Не сумлевайся, вот те Христос, найду. По такой погоде след долго стоит.
— Спасибо, Яков, — растрогался Степан. — Ежели Наталью найдем, последнюю рубаху для тебя скину. Жених в море, на меня вся надея. Понимаешь?
— Жалею, не кончил подлого старика, — бубнил свое Малыгин. — Марфутка–то…
— Голодная лиса и во сне кур считает, — с досадой сказал Степан. — Надоел, паря.
Петряй пригорюнился, облокотился о стол и запел неожиданно тонким, жалобным голосом:
Приневолила любить
Чужу–мужную жену.
Что чужа–мужна жена —
То разлапушка моя.
Что своя–мужна жена —
Осока да мурава,
В поле горькая трава,
Бела репьица росла,
Без цветочиков цвела…
— Эх, ребяты, заскучало ретивое, душа горит!..
Мужики погуляли славно. Общежительная братия то ли с горя, то ли от большого поста и долгого воздержания веселилась круто. Долго скитницам пришлось отмаливать грехи, долго они вспоминали веселых мужиков.
Утром Яков Рябой не забыл своего обещания. Встал он раньше всех, с петухами, и, разбудив Степана, сказал:
— Пока спят, пойдем след Наташкин искать.
Степан без слов поднялся.
Окунув головы в ушат с водой и поеживаясь от утренней прохлады, мужики вышли за ворота.
— Эй, сторож, не спишь? — подмигнул мимоходом Степан привратнику. — Ну–к что ж, я ведь так, — добавил он, видя, что старик всполошился.
Яков Рябой по–собачьи шарил по траве. Он часто пригибался, ковыряя пальцем землю. Дул на примятую траву, разглядывал каждую травинку.
— Нашел, — радостно закричал Яков, — вот он, след! Степан кинулся на зов.
— Смотри здесь, Степа, вот мужик босой шел, хромал на левую ногу, с поволочкой шаги–то, сразу видать, чепь долго носил. Правой ногой шибко приминает, а левой чуть. А вот сапожки девичьи — махонькие, с подковками. А третий в лаптях, тяжеленек шаг–то, — объяснил следопыт.
— Это девка Прасковья, — обрадовался Шарапов, — про нее и в письме писано.
— Видать, в теле девка, вишь, как трава примята и травинки в землю вдавлены. Мужичок не тяжел — кость одна весит.
Яков Рябой увлекся и, сверкая глазами, все говорил и говорил.
Степан с удивлением посматривал на товарища «Вот те и молчальник! — думал он. — Словно подменили человека».
У деревянного раскольничьего креста о восьми концах Яков остановился и полез в кусты.
— Ну–тка, Степан, гляди. — Он громко засмеялся, радуясь словно ребенок. — Здесь утра дожидались, — объяснил Яков, березу на постелю ломали. Мужик сухари ел, смотри, крошки. Девка лапти переобула. Чистые онучи надела, а старые, вон они. — Он указал на тряпки, висевшие на сучке. — Женки здеся вместе лежали. Теперь буди мужиков, похарчим — и в лес, — сказал Яков, поднимаясь с колен. — Никуда от нас Наташа не уйдет. Так–то, мореход.