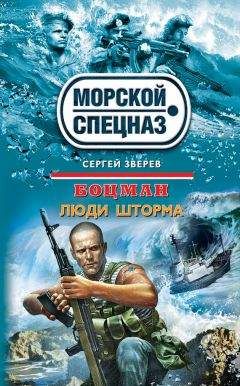Фредерик Марриет - Морской офицер Франк Мильдмей
— Смерть есть вечный сон, и чем скорее засну я, тем лучше! — думал я. Одно только, что тяготило меня, был страх публичного наказания. Гордость моя не могла перенести этого, потому что гордость, даже во время пребывания в тюрьме, опять возвратилась и завладела мной. С рассветом шум телег и деревенских жителей, собиравшихся на площадь с своими произведениями, вызвал меня из забвения, потому что я не мог спать. Любопытные всех возрастов и сословий окружили тюрьму, желая взглянуть на англичанина-убийцу; решетки окон облеплены были человеческими головами, совершенно прекращавшими доступ света и воздуха. На меня глазели, как на дикого зверя, и дети, сидя на плечах своих матерей, чтобы удобнее было им видеть меня, получали при этом нравственные наставления, для подтверждения которых я приводим был в пример.
Как заключенный в клетке тигр, устремляющий неподвижно свой глаз, от усталости беспрестанного топтания взад и вперед, так ходил я в своей тюрьме, и если бы мог чрез косые впадины к окнам и стену толщиной в три фута достать кого-нибудь из наглых зрителей моих, я задушил бы его.
— Все эти люди, — думал я, — и еще несколько тысяч других будут присутствовать при последних моих минутах, когда я буду умирать на плахе!
Пораженный этою ужасной мыслью, я с бешенством искал перочинного ножика в карманах, чтобы разом избавить себя от мучительных опасений. И если бы нашел его, наверное, совершил бы самоубийство в те минуты сумасбродства; но, по счастию, ножик оставлен был дома.
Наконец, толпа начала расходиться. У окошек никого не оставалось, и только по временам заглядывали сквозь решетку головы мальчишек. Изнуренный телесного усталостью и душевными страданиями, я готов был броситься на холодные камни пола, как увидел лицо моего слуги, торопливо подошедшего к окну тюрьмы и восклицавшего с радостью:
— Радуйтесь, мой дорогой барин, — г. Тальбот не умер!
— Не умер! — воскликнул я, невольно падая на колени и подняв к небу сложенные вместе руки и дикие свои глаза. — Не умер! Хвала тебе, Господи! По крайней мере есть надежда, что я не понесу на себе преступления убийцы.
Прежде чем успел я сказать еще слово, майор с полицейскими офицерами вошли в мою тюрьму и объявили мне, что было произведено следствие, при котором мой друг в состоянии был дать самые ясные ответы на все пункты; и из собственного сознания его видно, что это был добровольно принятый им поединок, и показание его подтвердили найденные в воде пистолеты.
— Поэтому, monsieur, — продолжал майор, — останется ли в живых друг ваш, или нет, так как все происходило в обычном порядке, то вы свободны.
Сказавши это, он вежливо поклонился мне и указал на дверь. Но я забыл всякую учтивость и, не попросив его выйти первым, побежал к Тальботу, который послал навстречу слугу сказать мне о величайшем желании его видеть меня. Он лежал в постели и когда я взошел, протянул мне руку; я покрыл ее поцелуями и омывал потоками слез.
— О, Тальбот! — сказал я. — Простишь ли ты меня? Он пожал мне руку и, лишившись сил, выпустил ее.
Лекарь вывел меня из комнаты, говоря:
— Теперь все зависит от покоя.
Мне рассказали потом, что он обязан был спасением своей жизни двум обстоятельствам. Первое заключалось в повязке мною раны своим шейным платком; а второе — что место нашей дуэли было ниже предела полой воды. Прилив начинался, когда я оставил его, и холодные струи волн, тихо обмывая его, оживили его. В этом состоянии найден он был слугою, и только за несколько минут до полного прилива, который должен был совсем покрыть его, потому что он не имел силы отодвинуться далее. Пуля насквозь прострелила ему правый бок, но не сделала значительного вреда.
Я переоделся и, с благоговением возблагодаривши Бога за чудное его спасение, сел возле кровати больного и ни на минуту не отходил от нее, пока он совсем не выздоровел. После этого я описал отцу и Кларе все происшествие в подробности. Клара, разуверившись, не скрывала более своего расположения. Отец Тальбота просил его возвратиться домой. Я проводил его до Кале. Тут мы расстались; через несколько недель, к величайшему моему удовольствию, я получил известие, что сестра сделалась его женой.
Оставшись один с тяжестью на сердце, тихо возвращался я в гостиницу, где, велевши изготовить почтовых лошадей, бросился в свою коляску, в которую мой слуга заблаговременно уложил вещи.
— Куда вы едете, сударь? — спросил слуга.
— К черту! — отвечал я.
— А паспорт ваш? — возразил он.
Я чувствовал, что для путешествия к черту имел достаточное число паспортов. Образумившись немного, я сказал, что еду в Швейцарию, и сказал потому, что имя это первым пришло мне в голову, и я слышал, что она была сборищем всех моих соотечественников, которых головы, сердца, легкие или финансы находились в расстройстве.
Я поднялся на Сент-Бернард пешком; путешествие это при приближении к вершине чрезвычайно занимало меня. Горы внизу и Альпы над головой сливались в одну массу льда и снега, и я с презрением смотрел на лежавший подо мной мир. Я поселился на некоторое время в находящемся там монастыре; богатый мой взнос в церковную кружку доставил мне гостеприимное дозволение прожить долее срока, назначенного для странников.
Я получил письмо от Евгении; оно было последним в ее жизни. Евгения уведомляла меня о смерти своего сына, который, вышедши гулять из дому, упал в ручей и был найден потом чрез несколько часов мертвым. Расстроенное состояние ее души не позволяло ей ничего более прибавить, кроме благословения мне и твердого убеждения, что в этом мире мы уже не увидимся; затем окончание письма было совершенно несвязное. Хотя я мог бы сказать, что не в состоянии был чувствовать тогда другой печали, но потеря этого милого мальчика и положение его горюющей матери нашли место в сердце моем и заставили забыть все прочее. Она просила меня поспешить приездом, если желаю видеться с нею прежде отхода ее в другой мир.
Я простился с монахами и со всевозможной скоростью прибыл в Париж, а оттуда в Кале. В гостинице Квилака, где я остановился, меня поразил удар, и хотя я мог предвидеть его, но не был еще к нему приготовлен. Это было письмо от поверенного Евгении, извещавшее о ее смерти. Она умерла от воспаления мозга в небольшом городке, в Норфольке, куда удалилась вскоре после нашей разлуки. Поверенный уведомлял также, что Евгения завещала мне все свое состояние, бывшее весьма значительным, и что ее последние слова, сказанные ему пред потерей памяти, были, что я составлял первый и постоянно единственный предмет ее любви.
Я уже закалился тогда в страданиях. Чувства мои не принимали более впечатлений. Я походил на корабль, бедствующий во время урагана, когда последняя грозная волна смоет все с палубы его, и он остается бессильным обломком, швыряемым по воле свирепого моря. Среди Этого опустошения я бродил мыслями, и единый предмет, представившийся мне тогда как наиболее достойный внимания моего, была могила, заключавшая в себе Евгению и ее сына. Туда я решился отправиться.