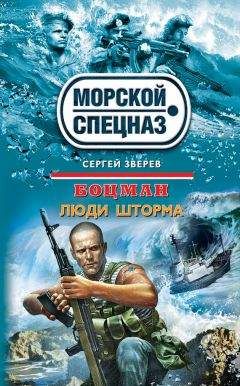Фредерик Марриет - Морской офицер Франк Мильдмей
Должна ли я, — говорила я себе, — расстроить перспективу жизни любимого мною человека — отца моего сына? Должна ли я для удовлетворения жалкого тщеславия сделаться женой того, кого некогда я была любовницей; жертвовать его надеждами, ожиданиями его семейства, лишить его счастья обладания добродетельной девушкой? Во всем этом, я надеюсь, ты увидишь прямое самоотвержение. Много, много потоков горьких слез сожаления и раскаяния пролила я о моем прошедшем поведении, но уповаю, что все претерпенное мною, и что предстоит мне еще претерпеть, будет принято у трона Милосердного, как искупительная жертва за мои прегрешения. Правда, я некогда желала того счастливого времени, когда я могла бы по всем правам чести и закона принадлежать тебе. Но это была одна только безрассудная, непреодолимая мысль, завладевшая мною. Я не могла б быть принята в то общество, для которого ты назначен.
Женщина, имевшая так мало уважения к самой себе, была недостойна сделаться женою Франка Мильдмея.
Кроме того, как могла я поступить несправедливо против моего сына и доставить ему братьев и сестер, которые имели бы пред ним преимущество законного права? Я чувствовала, что пребывание наше вместе никогда не могло послужить к нашему счастью, даже если бы ты согласился признать меня женой, в чем я, однако, сомневалась; а узнавши чрез моих поверенных, что ты женишься на девице Сомервиль, находила все это к лучшему, и что я не имею права жаловаться, тем более (краснею, говоря это), что сама заставила тебя сделать шаг к соблазну.
Итак, Франк, я не могу быть женою твоею — и увы — вполне знаю невозможность этого; позволь же мне быть твоим другом, твоим искренним другом, как мать твоего ребенка или, если тебе угодно, как твоя сестра! Но священная черта проведена теперь между нами: она есть примирение мое с Богом. Ты знаешь мою твердость и решительность; рассудивши зрело и принявши намерение, я остаюсь непреклонной, и думаю, что нет человека, который бы мог совратить меня. Поэтому не делай никакого покушения: оно будет клониться к твоему унижению и стыду, и навсегда удалит меня из твоих глаз. Я уверена, что ты не захочешь оскорбить меня предложением возобновить глупости моей молодости. Ежели ты любишь меня, уважай меня; обещай мне, именем любви твоей к мисс Сомервиль и расположения к этому невинному мальчику, исполнить мое желание. Твоя честь и спокойствие духа, равно как и мои, требуют того».
Подобное воззвание, сделанное тою, от кого я наименее ожидал его, привели меня в стыд и замешательство. Как будто бы в висевшем передо мной зеркале, увидел я все нравственное свое безобразие. Я видел, что Евгения была не столько стражем своей собственной чести, но даже моей и счастья Эмилии, перед которой я чувствовал себя уличенным в постыдном поступке. Я уверял Евгению, что привязан к ней всеми узами чести, уважения и любви, и что ее сын будет постоянно предметом нашего взаимного попечения.
— Благодарю тебя, мой милый, — сказала она. — Ты снимаешь бремя с моего сердца; помни, что с этих пор мы брат и сестра, и так как между нами теперь сделано условие, я буду иметь возможность наслаждаться удовольствием твоего общества, и прошу тебя рассказать все, что случилось с тобою с того времени, как мы расстались. Расскажи мне в подробности то, о чем я имею лишь поверхностные известия. Я рассказал ей все мои приключения с минуты нашей разлуки до той, когда неожиданно увидел ее в театре, Она попеременно переходила к страху, удивлению и смеху. Лежавшие на полу в обмороке Клара и Эмилия заставили ее содрогнуться и вскрикнуть; но перешла потом к непрерывному смеху, когда я описал ей недоразумение слуги и пощечину, которую отвесила ему служанка. Я не был от природы расположен к порочности, и только обстоятельства делали меня таким на время; напротив, будучи всегда благороден, легко обращался к чувству долга, если припоминал свою ошибку, и потому ни за какие царства в мире не стал бы я просить Евгению нарушить свое обещание. Я любил и уважал мать моего дитяти, тем более, когда видел ее причиной сохранении моей верности к Эмилии; и, утешая себя мыслью, что дружба к одной и любовь к другой не имеют ничего общего, немедленно написал к Эмилии извещение о скором моем возвращении в Англию.
— Уверенность в твоем благородстве позволяет мне теперь согласиться, чтобы ты сопровождал меня в Лондон, куда призывают меня дела, — сказала Евгения. — Пьер отправится с нами; он преданный человек, хотя ты и поступал с ним так круто.
— В этом мы уже с ним рассчитались, — сказал я, — и Пьер будет сердечно рад другому толчку за такую же цену.
Приготовления к поездке были непродолжительны. Расплатившись с хозяином дома, мы отправили наши чемоданы в огромный дорожный экипаж. Я сел возле Евгении, и посадил дитя между нами; мы переехали Жиронду, и через Пуатье, Тур и Орлеан приехали в Париж. Нам обоим не понравились нравы и обычаи французов; и так как они были бесчисленное множество раз описываемы роями английских путешественников, обременявших эту страну присутствием, а Англию произведениями своих трудов, то я также беспечно постараюсь проехать Францию, как надеюсь проехать через туннель под Темзою, когда он будет окончен. Евгения спрашивала моего совета относительно избрания для себя будущего местопребывания, и при этом я сделал величайшую ошибку; но привожу в свидетели небо, что без всякого намерения. Мне вздумалось сказать ей, что весьма хорошая деревня, находящаяся недалеко от имении Сомервиля, представляет все удобства жизни, и потому просил ее переехать в ту деревню, обещая часто навещать ее.
— Хотя я буду очень рада часто видеть тебя, Франк, — сказала Евгения, — но тут кроется опасность для всех нас. И, пожалуй, это будет не очень хороший поступок против твоей будущей жены. По несчастию, несмотря на полученные мною испытания и обещания исправиться, я все еще не переставал легко вдаваться в обманчивые предположения. Утешая себя, что не имею никакого дурного намерения, я пренебрег всеми сомнениями Евгении. Она послала доверенного человека в деревню, и тот нанял на самом конце ее покойный и даже щегольский домик с мебелью. Она отправилась туда с сыном и Пьером; а я поехал в дом батюшки, где ожидали моего возвращения для выполнения великого торжества.
Я нашел в Кларе совершенную перемену ее невыгодного мнения о флотских офицерах, к которой была она вынуждена любезностью моего друга Тальбота, и к неописанной моей радости, узнал о согласии ее отдать ему пред алтарем свою беленькую, маленькую ручку. Это можно было назвать большим триумфом для флота. Обыкновенно в шутку я говаривал Кларе, что никогда не прощу ей, ежели она не поступит в наше ведомство. Я имел полное уважение к достоинствам Тальбота и потому считал будущую судьбу моей сестры совершенно счастливою.