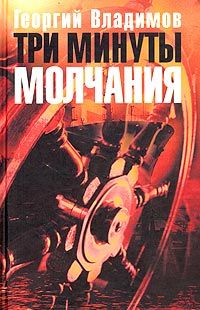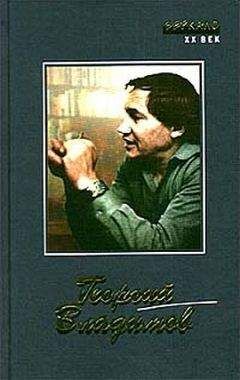Георгий Владимов - Три минуты молчания
— Не поминай лихом, — сказал я бондарю. — Я знаю, ты в Баренцево не идешь, так попрощаемся? Он руки моей не взял.
— Кто тебя еще поминать-то будет? Много чести, знаешь. — Тронул таксишника. — Езжай, родной.
Дальше мы пошли с «дедом». Он совсем близко от нашей общаги жил. Вот так мы с ним когда-то и познакомились: все разошлись, а мы вдвоем пошли пробиваться через метель — и вдруг разговорились, и он меня к себе затащил обедать. А за весь рейс не сказали друг с другом ни слова.
Я шел с «дедом» и он мне говорил:
— Беспокоит меня твое дальнейшее, Алексеич. Ты все же не бросай флот, зачем тебе жизнь переламывать надвое. Мы, может, самое трудное уже пережили, а теперь, глядишь, техники поднавалят, «океаны», и "тропики",[69] условия наладятся. А я-то — уж кончился, это точно. Кончился я в этом рейсе. Тридцать лет около машины провел, а как посмотрел на парус — вдруг понял: кончился.
— Что ты, «дед»! Мы еще поплаваем вместе. Ты же меня делу обещал научить.
Он не отвечал, усмехался, а я вспомнил: "Приятно и легенду послушать".
У своего переулка он спросил, помявшись:
— Может, ко мне завалимся? Накормят нас, выпить поставят, и спать где найдется. Чего тебе сразу — с парохода и в общагу?
Но я как вспомнил их комнатешку, диванчик, на который меня положат…
— А я не в общагу, — сказал я ему весело. — Есть еще куда завалиться.
— А! — Он улыбнулся мне. — Ну — в «Арктике»?
Мы пожали друг другу руки, и «дед» зашагал — тяжелый, в коротком своем полушубке, в мохнатой шапке, в сапогах. Еще раз обернулся ко мне, точно знал, что я жду этого, и помахал на прощанье. И я пошел один, сначала одной щекой к ветру, потом другой.
Навстречу мне два чудака шли. Один чего-то бубнил, размахивал длинными мослами, другой — трусил полегоньку, упрятав нос в воротник. Я пригляделся знакомые силуэты. Вовчик с Аскольдом. Я вышел к фонарю, сделал им ручкой.
— Приветствую вас, кореши. На промысел топаете?
Встали как вкопанные. Вроде бы дернулись друг от друга. Потом Аскольд заулыбался, губищи распустил.
— Сень, откудова, какими судьбами?
— Да все оттуда же — с моря, где вас никогда не видно.
— А мы тебя в апреле встретить готовились. Как это понять, Сеня?
Неохота мне было им рассказывать.
— Поздновато вы сегодня, бичи. Разошлись уже все. Да и не повезло нам, много с нас не выдоишь.
Вовчик вздохнул:
— Мы б хоть посочувствовали.
Мне смешно стало. И никакой же злости я к ним не испытывал. Но и жалости тоже.
— Все те же вы, кореши, — сказал я им. — Все в тех же ушанках драных, в телогреечках. Не пошли вам впрок мои деньги.
Аскольд удивился:
— Какие деньги, Сеня?
— Да уж скажите по правде, дело прошлое… Сколько заначили? Кроме тех, что Клавдия отобрала.
Вовчик, друг мой, кореш верный, поскрипел мозгами и сознался:
— Сень, ну заначили… В такси еще. Ты ж не помнишь даже, как ты роскошно хрустиками кидался. Это ж кого хочешь соблазнит.
— Так… Ну, а закаченные — неужели все пропили? Ох, дурни!
— Сень, — сказал Вовчик, — ты ж знаешь, на нее же, проклятую, никаких не хватит.
— Дурни вы, дурни.
Аскольд меня подколоть решил:
— А ведь ты, Сеня, тоже вот в телогреечке. Где ж твоя курточка, подарок наш?
— От вас, — говорю, — и подарок не задержится.
Я пошел от них. Вовчик меня окликнул:
— Так, может, проводим курточку?
— Это мысль!
— Значит, приглашаешь?
— Пригласил бы я вас, кореши. Но вас же не было с нами. Мне очень жаль, но вас не было с нами.
Долго они маячили под фонарем.
В городе намело сугробов, и когда я шел, тут же мой след заметало поземкой. На Милицейской ветер гулял, как в трубе, телогрейку мою продувал насквозь. Но я все-таки постоял немного перед крыльцом Полярного и с каким-то даже удивлением почувствовал — нет, ничего это для меня не значит. «Спасибо», и только. Неужели так быстро мы излечиваемся?
Перед дверью общаги тоже намело снега, мне его пришлось ботинками разгребать, чтобы вахтерша могла открыть. Та же самая вахтерша, что провожала меня.
— Узнаете, мамаша?
— Вернулся?
Я по глазам видел — нет, не узнала.
— Вернулся и долг принес. Тридцать копеек. Помните?
Вот теперь узнала.
— Что ж ты так скоро? Случилось чего?
— Да так, о чем говорить… просто нам не повезло.
— Всем бы так не везло — руки-ноги целы. А долг тебе скостили. Новую ведомость завели.
— Да, — говорю, — жизнь не стоит на месте! Поселите меня, мамаша. Желательно — у окошка.
— Где захочешь, там и ляжешь. У нас вон целая комната освободилась. Только приборку сделаем — и поселяйся.
— А приходов сегодня не ожидается?
— В пять вечера какой-то причалит.
Я прикинул — раньше семи они здесь не будут, а к восьми я сам уйду в "Арктику", — это значит, я целый день один буду в комнате. Можно запереться, лежать, курить.
— Спасибо, мамаша. Чемоданчик я пока у вас оставлю.
— Оставь, не пропадет.
— А там и пропадать нечему. Пойду погуляю. Очень я по городу соскучился. По нашим северным воротам, бастионам мира и труда.
Она поглядела на меня поверх очков:
— Что-то с вами там стряслось…
— Я же говорю: не повезло.
На вокзале буфет — с шести; я, случалось, туда захаживал перед утренними вахтами. Буфетчица вылезла сонная, повязанная серым платком, нацедила мне из титана два стакана кофе, чуть теплого — или мне так показалось с мороза, — и я его пил без хлеба, без ничего, просто чтоб отогнать сон и кое о чем подумать. Потому что мы вечером встретимся в «Арктике» и там, конечно, будем под банкой, и все опять пойдет своим чередом. А хорошо бы все-таки понять — для чего мы живем, зачем ходим в море. И про этих шотландцев — почему мы пошли их спасать, а себя не спасали? И о том, что будет со мной в дальнейшем, как говорил «дед»: может быть, я и пойду к нему на выучку или наберусь духу и в мореходку подам, "резким человеком" стану — в макене-то, с белым шарфиком! — или же мне все-таки переломить ее надвое, мою жизнь?
А так ли это важно — как я свою судьбу устрою, ведь Клавки со мной не будет, а никакая другая мне вовек не нужна. И я же все равно нигде покоя не найду: отчего мы все чужие друг другу, всегда враги. Кому-то же это, наверно, выгодно — а мы просто все слепые, не видим, куда катимся. Какие ж бедствия нам нужны, чтоб мы опомнились, свои своих узнали! А ведь мы хорошие люди, вот что надо понять; не хотелось бы думать, что мы — никакие. А возим на себе сволочей, а тех, кто нас глупее, слушаемся, как бараны, а друг друга мучаем зря… И так оно и будет — пока не научимся о ближнем своем думать. Да не то думать, как бы он вперед тебя не успел, как бы его обставить, — нет, этим-то мы — никто! — не спасемся. И жизнь сама собой не поправится. Вот было б у нас, у каждого, хоть по три минуты на дню помолчать, послушать, не бедствует ли кто, потому что это ты бедствуешь! как все «маркони» слушают море, как мы о каких-то дальних тревожимся, на той стороне Земли… Или все это — бесполезные мечтания? Но разве это так много — всего три минуты! А ведь понемножку и делаешься человеком…