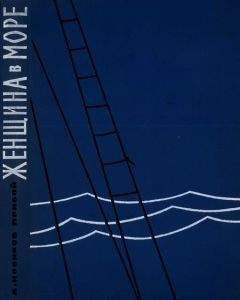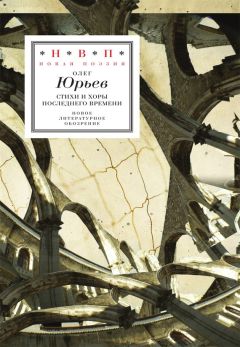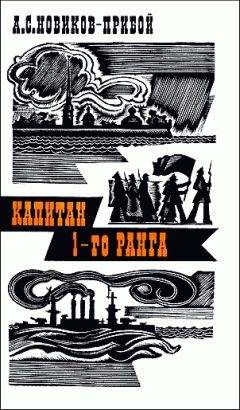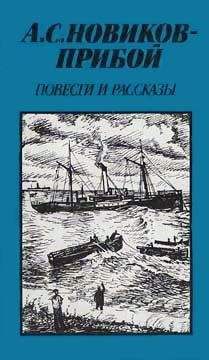Алексей Новиков-Прибой - Море зовет
Я уже с раскаянием думаю иначе:
«Про Амелию я нагло вру, со злобы вру… Она славная, красива и умна, а главное — непосредственно жизнерадостна, как жаворонок весною. И что плохого в том, что она вызывала письмом меня, а не другого? Просто хотела сравнить меня с англичанином. Я оказался хуже его…»
Силою воли я обрываю эту мысль и начинаю быстро ходить по палубе.
Шелло отбивает склянки. На носу, у самого бугшприта, вонзающегося в темноту, окаменело сидит впередсмотрящий матрос. Он встает и, повернувшись к мостику, протяжно кричит:
— Впереди по носу судно!
— Хорошо! — отвечает с мостика помощник капитана.
Через некоторое время впереди, горя отличительными огнями, зелеными и красными, похожими на два разноцветных глаза, отчетливо вырисовывается силуэт судна. Это французский военный крейсер. Он с шумом проносится мимо нас, привлекая внимание некоторых вахтенных, и, как мимолетное видение, исчезает вдали.
Я подхожу к Джиму и Блекману и опускаюсь около них на палубу.
— Не спите, Джим? — спрашиваю я.
— Нет, — отвечает он, глядя в звездное небо.
— Ночь хороша!
— Да, люблю такие ночи. Лежишь и думаешь. Всю свою жизнь переберешь. Многое припомнишь…
Меня все время интересует этот старый моряк.
— Вы семейный?
— Очень даже.
— Что значит — очень?
— А то, что не одну, а много семей имею.
— Где же они?
— Везде, только не при мне, — есть на Цейлоне, в Сан-Франциско, в Южной Африке, в Европе. Был и я когда-то молод и силен. И везло же мне, черт возьми, насчет женщин! Липли они ко мне, как ракушки к судну. Ну и рассеивал свое племя по земному шару. Если собрать вместе всех жен и детей — ого! Изрядная цифра получится…
Помолчав, он добавляет:
— А приходится кончать свой век одиноким…
Он произносит последнюю фразу с некоторой грустью, но тут же, словно устыдившись этого, разражается отъявленной руганью.
Я ложусь навзничь прямо на палубу и смотрю мимо выпуклых парусов на звезды. Скрипя, покачиваются высокие мачты, точно зарисовывают клотиками по сверкающему небу незримые иероглифы.
В известной точке земного шара, среди дремучих лесов России, есть небольшое село, откуда, вызванный своими родителями к жизни, я начал делать петли по суше и морям.
Много разных женщин встретил я на своем пути, но ни одна из них не тронула моего сердца, не взволновала моей души, пока не столкнулся с той, что спустя восемь лет после меня появилась на свет в другом месте, в чужой стране, на берегу моря за тысячи верст. Почему именно Амелия, а не другая женщина увлекла меня? По каким законам вообще происходит любовь?..
Мне не решить этих вопросов.
Из трубы камбуза вьется дымок: это кок готовит для капитана кофе. Слышны всплески волн, рокот воды, напевы ветра, путающегося в многочисленных снастях, как в струнах. Ароматная свежесть моря ласково обвевает тело. Я прикрываю ресницы, и мне кажется, что не судно качается, а звезды в темно-синей глубине неба перелетают с одного места на другое, красиво сверкая между окрыленными мачтами.
Я сплетаю сказку любви, но через некоторое время вскакиваю и нервно хожу по палубе, ругаясь не хуже Джима.
VIIЧередуются дни с ночами, восходы с закатами.
Завтра мы должны зайти в Алжир. Об этом узнал рулевой из разговора капитана с помощником и сейчас же эту новость сообщил команде.
Матросы радуются, строят различные планы, что предпринять, когда попадут на берег. Только Джим Гаррисон, несмотря на солнечное утро с небольшим теплым ветром, заигрывающим с морем, чувствует себя скверно.
— Что с вами? — спрашиваю я его.
— Спина совсем отнялась, — жалуется он, сквернословя при этом. — И все кости ноют…
За работой Джима, едва передвигающего ноги, следит с мостика сам капитан, скосив на него оловянно-мутные глаза. Видно, что он недоволен стариком, только бесполезно изводящим на корабле пищу. Проходя обедать, зовет его к себе в каюту.
Через несколько минут, выйдя от капитана, Джим направляется к нам и на вопрос, в чем дело, выбрасывает такую брань, точно читает молитву, приговаривая:
— Чтоб ему не выйти из этого моря, чтоб акулы по косточкам и жилочкам его растащили и чтоб сами акулы от его подлого мяса желудками захворали.
Дальше, продолжая ругаться, он проклинает все капитанское потомство до двадцатого поколения, всех его святых, богов, кроя их «через гробовую крышку в блудные глаза». Он стоит перед нами, размахивая правым кулаком, раздраженный, с горящими глазами, с растрепанными волосами на обнаженной голове, точно к нему вернулись молодость, прежняя удаль. Кажется, что ему ничего не стоит пойти к своему обидчику и искромсать его на кусочки. Но это продолжается недолго: выпалив все, что накипело в душе, он сразу теряет пыл, тускнеет, снова становится дряхлым и говорит уже примиренным тоном:
— А впрочем, капитан прав.
— В чем? — спрашиваем мы.
— Говорит, что выдохся я. Дал расчет. За месяц уплатил. Советует на берегу посушиться…
— Да, был орел, да крылья измотал, — вставляет Шелло. — Видимо, придется вам последовать совету Единоутробника Вельзевула.
— Ну нет, этого не будет! — решительно заявляет Джим. — Опять в матросский дом, опять чистить картошку, выносить помои, мыть полы и всякой другой чепухой заниматься и не видеть моря — довольно! Для меня матросского дома больше не существует. Я не согласен в этом дьявольском учреждении сдыхать после того, как пятьдесят лет в разных морях проплавал, нет, не согласен!..
Отделившись от нас, старик долго гуляет по палубе, что-то обдумывая. Иногда, останавливаясь, он оглядывается кругом, кажется, любуется голубым простором, но больше смотрит на пламенеющий горизонт, в солнечную сторону, туда, где между складками небольших волн, змеясь, красиво играют отблески. Потом, придя к какому-то решению, спускается в кубрик. Через час опять появляется на палубе, держа в руках конверты и почтовую бумагу, но его уже нельзя узнать: он выбрит, умыт, гладко причесан на прямой пробор, одет в чистое платье. Во всей его фигуре чувствуется какая-то торжественность. Усевшись на палубе, приспособив на коленях дощечку, он карандашом пишет письма, не обращая ни на кого внимания и лишь хмуря густые брови, сосредоточенный и углубленный. Его больше никто не беспокоит, и даже боцман, проходя мимо, старается держаться от него подальше.
Вечером, когда мы уже были свободны от вахты, Джим приглашает Блекмана, Шелло и меня к столу, ставит бутылку виски, купленную им у судового повара, и начинает нас угощать.
— Я отплавал, — говорит он твердым голосом, разливая по кружкам виски. — Немного не хватает до пятидесятилетнего юбилея моей морской службы, ну, ничего…