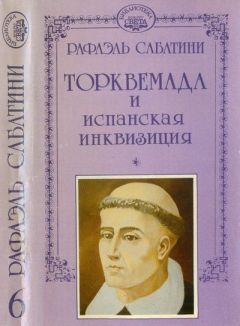Рафаэль Сабатини - Скарамуш
— Что там, Жак? — Графиня овладела собой, и голос её был твёрд. Она вышла из тени в островок света, к столику.
— Внизу какой-то человек. Он спрашивает… он хочет немедленно видеть вас.
— Какой-то человек? — переспросила она.
— Он… кажется, это должностное лицо. По крайней мере, у него трёхцветный шарф. Он отказывается назвать своё имя — говорит, что оно вам ничего не скажет и что он должен увидеть вас сию же минуту.
— Должностное лицо? — переспросила графиня.
— Должностное лицо, — повторил Жак. — Я бы не впустил его, но он потребовал отворить именем нации. Сударыня, приказывайте, что нам делать. Со мной Робер. Если вы пожелаете… что бы ни случилось…
— Нет-нет, мой добрый Жак. — Она великолепно владела собой. — Если бы у него были дурные намерения, он, разумеется, пришёл бы не один. Проводите его ко мне, а потом попросите мадемуазель де Керкадью присоединиться к нам, если она не спит.
Жак вышел, несколько успокоенный. Графиня села в кресло у столика со свечами. Она машинально разгладила платье. Если напрасны её надежды, напрасны и мимолётные страхи.
Дверь отворилась, и снова появился Жак. За ним, быстро шагая, вошёл стройный молодой человек в широкополой шляпе с трёхцветной кокардой. Оливковый редингот был перехвачен в талии трёхцветным шарфом. На боку висела шпага.
Он раскланялся, сняв шляпу, и в её стальной пряжке отразилось пламя свечей. У него было худое смуглое лицо, а взгляд больших тёмных глаз был пристальный и испытующий. Графиня подалась вперёд, не веря своим глазам. Потом глаза у неё загорелись, бледные щёки окрасились румянцем. Вдруг она встала, вся дрожа, и воскликнула:
— Андре-Луи!
Глава XVI. БАРЬЕР
Его дар смеха, кажется, окончательно иссяк. Он продолжал рассматривать графиню странным испытующим взглядом, и его тёмные глаза, вопреки обыкновению, не светились юмором. Однако мрачным был его взгляд, но не мысли. Благодаря беспощадной остроте видения и способности к беспристрастному анализу он видел всю нелепость и искусственность чувств, которые сейчас испытывал, не позволяя им завладеть собой. Источником этих чувств было сознание, что она — его мать (как будто та случайность, что она произвела его на свет, могла теперь, спустя столько времени, установить между ними реальную связь). Мать, которая бросает своего ребёнка, не достойна этого звания — и зверь так не поступит.
Он пришёл к выводу, что согласие спасти её в такой момент — сентиментальное донкихотство чистой воды. Расписка, без которой мэр Медона не соглашался выдать пропуск, поставила под угрозу всё его будущее и, возможно, саму жизнь. Он пошёл на это не ради реальности, а из уважения к идее — он, который всю жизнь избегал пустой сентиментальности!
Так думал Андре-Луи, рассматривая графиню внимательно и с обострённым интересом, вполне естественным для того, кто впервые увидел свою мать, когда ему исполнилось двадцать восемь лет.
Наконец он перевёл взгляд на Жака, всё ещё стоявшего в открытых дверях.
— Сударыня, не могли бы мы поговорить наедине? — спросил Андре-Луи.
Она отослала лакея, и дверь за ним закрылась. Она ждала, чтобы он объяснил свой визит в столь необычное время.
— Руган не смог вернуться, — коротко пояснил он. — По просьбе господина де Керкадью вместо него приехал я.
— Вы! Вас прислали спасти нас! — Нота изумления в её голосе звучала сильнее, чем облегчение.
— Да, а также для того, чтобы познакомиться с вами, сударыня.
— Познакомиться со мной? Что вы хотите этим сказать, Андре-Луи?
— В этом письме господина де Керкадью сказано всё.
Заинтригованная его странными словами и ещё более странным поведением, она взяла сложенный лист, дрожащими руками сломала печать и поднесла письмо к свету. Она читала, и глаза её стали тревожными. Наконец она застонала и бросила взгляд, исполненный ужаса, на молодого человека, сильного и стройного, который стоял перед ней с таким бесстрастным видом. Она попыталась читать дальше, но не смогла: неразборчивые буквы господина де Керкадью плыли перед глазами. Да и какое это имело значение? Она прочла достаточно. Листок затрепетал в её руках и упал на стол. Лицо у неё стало белее мела. С невыразимой грустью смотрела она на Андре-Луи.
— Итак, вы знаете всё, дитя моё? — Её голос перешёл на шёпот.
— Знаю, матушка.
Она вскрикнула при этом новом для неё слове, и от неё ускользнула тонкая насмешка, смешанная с упрёком, с которой это слово было произнесено. Для неё время остановилось. Она совершенно забыла о гибели, которая грозила ей как жене тайного агента, и обо всём остальном — её сознание заполнила лишь одна мысль, что она стоит перед своим сыном, рождённым от адюльтера, в тайне и стыде, в далёкой бретонской деревне двадцать восемь лет тому назад. В этот момент ей даже не пришло в голову, что секрет её раскрыт и могут быть последствия.
Она сделала один-два неверных шага и открыла объятия. Рыдания душили её.
— Вы не подойдёте ко мне, Андре-Луи?
С минуту он стоял, колеблясь, потрясённый этим призывом и чуть ли не рассерженный тем, что сердце его откликнулось вопреки разуму. Горькое чувство, которое испытывали они оба, было странным и нереальным, однако он подошёл, и её руки обняли его, а мокрая щека прижалась к его щеке.
— О Андре-Луи, дитя моё, если бы вы только знали, как я мечтала вот так прижать вас! Если бы вы знали, как я страдала, отказывая себе в этом! Керкадью не должен был вам говорить — даже сейчас. Он должен был молчать ради вас и предоставить меня моей судьбе. И однако сейчас, когда я могу вот так обнять вас и услышать, как вы называете меня матушкой, — о Андре-Луи, я рада, что так случилось. Сейчас я ни о чём не жалею.
— А стоит ли беспокоиться, сударыня? — спросил Андре-Луи, стоицизм которого был сильно поколеблен. — Ни к чему поверять нашу тайну другим. Сегодня мы — мать и сын, а завтра вернёмся на свои места и всё забудем — по крайней мере внешне.
— Забудем? У вас нет сердца, Андре-Луи?
Её вопрос странным образом воскресил его актёрский взгляд на жизнь, который он считал истинной философией. Он также вспомнил о предстоящих испытаниях и понял, что должен овладеть собой и помочь ей сделать то же самое, иначе они погибли.
— Этот вопрос так часто предлагался мне на рассмотрение, что, должно быть, в нём содержится истина, — сказал он. — Ну что же, в этом следует винить моё воспитание.
Она ещё сильнее обхватила его за шею, как будто он попытался высвободиться из объятий.
— Вы не вините меня в своём воспитании? Теперь, когда вы знаете всё, вы не можете обвинять меня! Вы должны быть милосердны! Вы должны простить меня. Должны! У меня не было выбора.