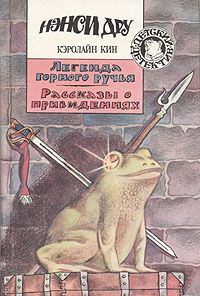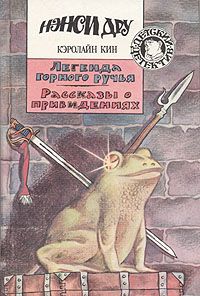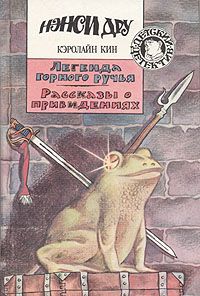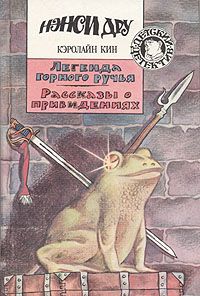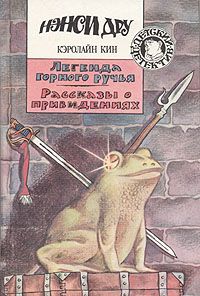Николай Зарубин - Надсада
Как всегда, Владимир чуть пригубил шампанского, женщины же, наоборот, к своим фужерам прикладывались часто, и к концу вечера бутылка оказалась пустой.
На Людмиле было длинное черное вечернее платье, под которым обозначились все округлости и выпуклости молодого тела. Кожа лица, шеи, грудь отливали матовой чистотой, по плечам небрежно рассыпались длинные, слегка волнистые каштановые волосы. Замшевые короткие сапоги, в каких она приехала, заменили черные изящные туфельки.
Привлекла его внимание и брошь на левой стороне груди — небольшая, с красноватого оттенка камнями и, видно, — дорогая, что он также про себя отметил, решив при удобном случае спросить об этой изящной вещи: Белову почему-то подумалось, что она непременно фамильная.
Обе женщины вели себя естественно, будто выход в ресторан для них дело обычное и ничем особым не примечательное, и в том проглядывалась порода.
Они и в самом деле выгодно отличались от собравшихся здесь женщин — строгостью одежды, сдержанностью манер, говорили негромко, но каждое слово проговаривалось так, что никакая музыка, никакие иные звуки не заглушали чистоту их спокойных речей.
— Вам, Владимир, верно, не раз приходилось ходить на медведя или на какого другого матерого зверя — простите, конечно, за банальность? Расскажите, пожалуйста, нам о каком-нибудь таком случае.
— Медведь не так страшен, как его малюют, — отвечал, улыбаясь, Белов. — У нас в Присаянье почти каждый подросток встречался с хозяином тайги, и в том ничего особенного нет. И я первый раз пошел на берлогу, когда мне было шестнадцать лет. Пошел один, потому что думал, таким вот образом смогу самоутвердиться в глазах моего дядьки Данилы — охотника до мозга костей, сильного и по-настоящему независимого человека. Но тот даже сделал вид, что ничего особенного не произошло, и позже я понял, что он поступил совершенно правильно, — бог весть до каких бы высот я взлетел в собственном мнении о себе и как бы возгордился. Он меня то есть с небес опустил на землю. Да что дядька или я, вот староверам, которые пришли в тайгу в прошлом веке, а среди них и мой прадед Ануфрий, действительно пришлось несладко, ведь они еще и скрывались от официальных властей. Путь себе они гатили среди топей да болот — там, на пустом месте, в подлинной глухомани и образовали поселение. Чтобы добраться до староверов, требовалось знать одну-единственную в болотах тропу.
— Как это — гатили? А вы ту тропу знаете? — спрашивала с интересом.
— Гатить значит прокладывать дорогу среди вековых деревьев, болот, оврагов и кустарников. Бывал и я на одном из островов того болота. Но рядом — еще один остров, там-то и было основное поселение. Дорогу туда знает только мой дядька Данила Афанасьевич и больше никто на свете.
— На всем — на всем белом свете? — спрашивала наивно.
— На всем.
— Чудесно! Ах, как чудесно…
— Что — чудесно?
— Чудесно то, что в наше время, накануне двадцать первого столетия, еще есть подобные первозданные места, где современная цивилизация не оставила своих гадких следов.
Белов глянул исподлобья на гостью, произнес больше, наверное, для себя, чем для нее:
— Цивилизацию не остановить, и здесь уж кто успел, тот и съел.
— Это вы о чем?
— О том я, что цивилизация в Сибири началась не с Ермака Тимофеевича и Никиты Демидова. Еще до них в Сибирь проникали предприимчивые торговые люди, которые скупали у местных аборигенов пушнину, кедровый орех и прочие таежные редкости, чего не было в центральной части России и в Европе. Добывали и золотишко. Этот период освоения Сибири, кстати, совершенно не изучен ни историками, ни учеными, а он был, потому что во все времена находились предприимчивые люди, которые признавали над собой только закон Создателя и зов собственного сердца. Никита Демидов открыл путь для промышленной разработки ископаемых Сибири, и после него уж пошли те, кто был калибром поменьше и кто начал хапать все подряд. В советское время и вовсе не существовало запретного — косили лес почем зря, взрывали недра, затапливали огромные пространства, причем вместе с деревнями и селами, из которых силком сгоняли людей. Дали свет, построили города, заводы, комбинаты, но Сибирь и сибиряков счастливыми не сделали. Под сибиряками я подразумеваю коренное население, пришедшее сюда по своей воле или в кандалах полтора-два века назад. От той Сибири сегодня не осталось и следа.
— Но вы ведь только что сказали об острове, на который можно попасть только по одной-единственной тропе, и знает ее только ваш дядюшка?
— Тропа — это чисто условное понятие, можно ведь и на вертолете.
— По тропе-то романтичнее… — мечтательно, чуть слышно, произнесла молодая женщина.
«Что это я распустил хвост перед тобой?» — подумал вдруг Белов неприязненно. Вслух сказал твердо:
— Сибирь сегодня приспосабливают под себя все кому не лень. Не успеешь ты, твое место займут другие.
— И вы… успеваете?
— Владимир Степанович, Милочка, а не пойти ли вам потанцевать? — вклинилась в их, приобретающую нежеланную остроту, беседу Леокадия Петровна. — Вам, молодым, надо успевать жить — это вот, по-моему, главное.
«А ведь она права, со мной, кроме как о тайге, и поговорить-то не о чем, этим я для них и интересен. Вот бы где Витька Курицин развернулся в словоблудии…» — с неприязнью вспомнил о приятеле, впервые позавидовав его воспитанию.
Мысль эта мелькнула в голове и тут же угасла, так как в глазах Людмилы он прочел желание быть с ним, и Белов поспешно поднялся, наклонил голову, приглашая женщину на танец.
Музыка в ресторане гремела непрерывно. Кто-то из подгулявших посетителей подходил к оркестрантам, заказывал свое, потом кривлялся в центре зала между столами, и никому ни до кого не было дела, лишь официанты зорко посматривали, следя за тем, чтобы кто-нибудь не ушел, не расплатившись.
Ресторанный чад, где смешались все возможные здесь звуки, какие только способны произвести музыка, голоса людей, шум от передвигаемых стульев, звон бокалов, как нельзя лучше способствовал сближению, когда можно ни на кого не обращать внимания, а принадлежать исключительно друг другу. И среди этой шевелящейся круговерти Владимир Белов с Людмилой Вальц почти стояли на месте: ему был приятен запах ее каштановых волос, которых он касался лицом, ей — его ровное глубокое дыхание, тепло которого она ощущала на своей шее.
Может быть, впервые в жизни она почувствовала надежность мужского плеча, а он также впервые наслаждался близостью этой совершенно не знаемой им женщины, прибывшей и всего-то несколько часов назад из того мира, в котором он никогда не бывал и который был для него чужим.