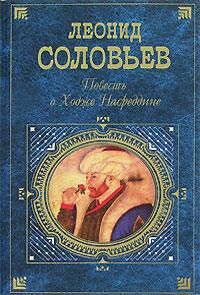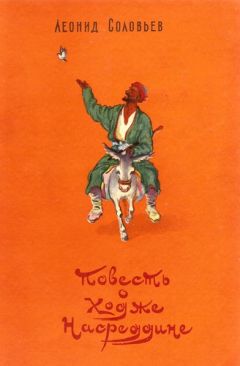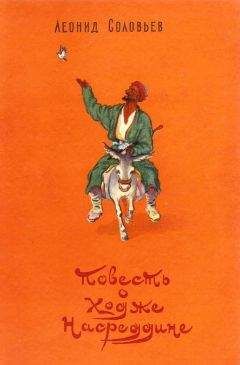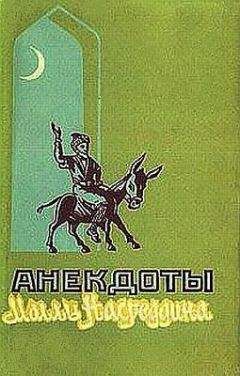Леонид Соловьёв - Очарованный принц
Здесь послышался вопль менялы:
– Как это – ей возвращены?! Драгоценности принадлежат мне, а вовсе не какой-то вдове!
До сих пор он безмолвствовал, так как ничего не мог понять в происходящем, хотя и чувствовал что-то неладное для себя. Но когда речь зашла о драгоценностях, он возопил.
– Какой это суд? – кричал он. – Где они, эти многочисленные неопровержимые доказательства? Я не вижу ни одного!.. Это новый коварный замысел против меня! Пусть будет мне предъявлено хоть одно доказательство! Добрые люди! – Он повернулся к толпе. – Вы слышите, видите! На ваших глазах грабят честного человека! Добрые люди, будьте свидетелями!
Толпа загудела, отзываясь ему шутками, смехом, язвительными возгласами; какой-то мальчишка закричал перепелом, второй залаял, третий замяукал; на площади возник беспорядок, нетерпимый и недопустимый перед лицом начальства.
– Купец Рахимбай, умолкни! – грянул вельможа. – Ты возмущаешь народ против закона и власти!
– Не замолчу! – вопил в исступлении купец. – Драгоценности мои, я платил за них деньги!
Шум и волнение на площади возрастали. Необходимо было угомонить купца. Но к этому вельможа не видел никаких способов, ибо купец впал в такое неистовство, что уже ни увещания, ни уговоры не могли образумить его.
Тогда вельможа, спасая себя, решился на крайнее средство.
Он подал знак стражнику с колотушкой.
– Я пойду во дворец, пусть великий хан самолично разберет мое дело! – кричал купец, а в это время к нему со спины подкрадывался коренастый, дюжий стражник, держа на отлете взнесенную наискось колотушку.
– Пусть великий хан удостоверится, каковы его судьи! – И это было последнее, что купец выкрикнул.
Колотушка опустилась на его голову.
Язык купца на ладонь выскочил изо рта, глаза выпучились и закатились. Он посинел, начал громко и часто икать, валясь навзничь, – и повалился бы, но вовремя был подхвачен тем же стражником с колотушкой.
Другие стражники успели навести порядок в толпе.
Пользуясь затишьем, вельможа объявил приговор и собственноручно отдал вдове кошелек с драгоценностями.
Хотя все это происходило перед лицом купца – он уже больше не кричал и не мешал правосудию. Вряд ли он даже видел что-нибудь, так как смотрел на мир из-под полуопущенных век одними белками, а зрачки пребывали по-прежнему где-то глубоко подо лбом. Икота, перемежаемая всхрапываниями, сотрясала его жирное тело, – так и был он отправлен домой в сопровождении трех стражников: двое волокли его под руки, третий подталкивал сзади.
…И только перед калиткой своего дома, когда стражники, усадив его на дороге, спиною к забору, чтобы не падал, уже ушли, – он опомнился и долгое время ничего не мог сообразить, водя по сторонам бессмысленным, мутным, словно бы дымным взглядом. Где площадь, где этот плут гадальщик? Да уж не сон ли все это?..
Где сумка?!
Он схватился за левый бок.
Сумки не было.
Она уже покоилась на дне одного ближнего водоема, набитая песком, а деньги из нее приятно отягощали собою карманы стражников.
Купец вскочил и, стеная, пошатываясь, в съехавшей набок чалме, устремился обратно, на судейскую площадь.
Там никого уже не было – ни вельможи, ни гадальщика, ни вдовы. Судилище закончилось, толпа разошлась. Площадь, залитая горячим солнцем, расстилалась широко и пустынно перед глазами купца, словно никогда и не было здесь никакого скопища людей, словно все, что происходило здесь полчаса назад, – все это ему привиделось, померещилось и пропало.
Лениво бродили два дозорных стражника, третий сидел, раскинув ноги, в тени помоста и перематывал тряпье на своей колотушке.
– Сумка! – завопил купец. – Моя сумка с деньгами!
Ответом был громкий смех и непристойные ругательные возгласы.
– Он хочет еще! – кричал стражник с колотушкой. – Ему одного раза мало! Придержите-ка его, я сейчас!..
Из этих слов купец понял, что с ним произошло и почему в затылке он чувствует тупую, ломящую боль.
– Грабители! Разбойники! – возопил он и бегом помчался ко дворцу, провожаемый насмешливым гоготом и непристойной руганью стражников.
Что было с ним дальше, удалось ли ему проникнуть во дворец, принес ли он великому хану свою жалобу и чем закончилась его новая тяжба с вельможей, – все это нам неизвестно, как неизвестна и дальнейшая судьба остальных: ввергнутого в тюрьму Агабека, пылкой Арзи-биби и других. На этих строчках они уходят из нашей книги, в которой занимали место лишь в меру своего соприкосновения с Ходжой Насреддином, светясь отраженным блеском его немеркнущей славы, – он расстается с ними, отблеск слабеет, гаснет, и они все погружаются на наших глазах в непроглядную тьму небытия, в мглистые пучины забвения.
Ибо сами по себе, по своему полному духовному ничтожеству, бессильны оставить в мире какой-нибудь след.
Так, на обратном пути к дому, освобождался Ходжа Насреддин от своих многочисленных спутников, которых послала ему судьба в этом путешествии; теперь возле него оставался только вор.
Вдвоем рано утром они покинули многошумный, бурливый Коканд.
Уже пробудившийся к торгу базар далеко проводил их своим хищным ревом; навстречу со всех сторон, от всех девяти кокандских ворот тянулись вереницы арб, караваны и всадники, спеша к началу торговли, – новый день готовился повторить то же, что и вчера: кощунственное служение богу наживы, обманов и хитростей.
А за городом, в садах, еще тенистых и влажных, была тишина – такая светлая, чуть подернутая голубовато-солнечной дымкой, словно бы родившаяся от небесной, туманной голубизны. И здесь Коканд сказал Ходже Насреддину свое прощальное слово, – за низеньким ветхим забором, в маленьком саду звенели, заливались тонкие детские голоса:
Открывает южный ветер
Вишен белые цветы,
День встает, лучист и светел,
Солнце греет с высоты.
И под ясный свист синицы,
Под весенний гром и звон,
Просыпается в гробнице
Добрый старый Турахон…
Ходжа Насреддин остановил ишака, спешился и почтительно поклонился в сторону забора. Он кланялся Коканду, что вознаграждал его за добрые труды этой песенкой.
Миновали последний сад, – началась низина: рисовые поля, блестевшие под солнцем белым расплавленным блеском. Отсюда было уже недалеко до гробницы дедушки Турахона.
Ходжа Насреддин обнял вора:
– Мы расстаемся. Кланяйся от меня Турахону, проси у него сил для новой, добродетельной жизни.
Затем было длительное прощание с длинноухим. Вор поцеловал его в нос и в последний раз деревянным гребнем расчесал кисточку на хвосте.
– Когда я опять увижу вас обоих? – спрашивал он.
– Не знаю, не знаю, – отвечал Ходжа Насреддин. – Помни только: мир открыт тебе во все концы, открыт и мне. Может быть, и встретимся: в каждой разлуке всегда сокрыта новая встреча.