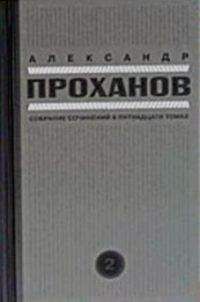Роберт Паль - И на земле и над землей
— Пешком далековато будет. Возьмите этот, все-таки на колесах.
Я удивился — как это можно, первому незнакомому прохожему? — и принялся отказываться.
— Почему чужому? Мы всегда шабрами считались. Почему бы не помочь? На обратном пути заедете. Берите, день на вечер пошел, поезжайте.
— Завтра верну, спасибо!..
Так я оказался «на колесах» и через полчаса уже шел по исчезнувшей улице нашей исчезнувшей деревеньки. Оглянусь — постою, постою — подумаю, повспоминаю.
Тут, на отшибе, жил угрюмый и нелюдимый дед Костюк. Когда одно время он был у нас бригадиром, то на каждого, как ему казалось, лодыря на всю округу кричал: «Я тебя за Сахалин отошлю!» Ну что спрашивать с сурового Сталина или кровожадного Ягоды, если, считай, в каждом селе у нас находились такие самодеятельные отсылатели!
Рядом с ним жила многодетная солдатка Марфа Деркач. Потом пара усадеб пустовала. От одной из них остался лишь колодец, которым мы пользовались, потому что своего у нас не было. Далековато, но зато вода — лучше не бывает.
Вот за этим колодцем жили мы, потом Скороходовы, Лопуховы, Кочергины, Тымовы, Латышевы, Соколовы, еще одни Кочергины… Тут, между Кочергиными и Комаровыми, стояла наша начальная школа — прекрасно срубленный из сосны и крытый железом дом со множеством больших окон и с просторной дощатой прихожей. В одну смену в школе занимались 1, 3 классы, в другую 2, 4. Учителя часто менялись, приходили из Софиевки, Бондаревки, еще откуда-то. Хорошо помню милую Анну Андреевну, громогласного, доброй земской закваски Петра Покотило, совсем еще девочку Александру Абрамовну. Когда появилось кино, изредка сюда заглядывала передвижа. Тут же проходили различные выборы, собрания, школьные концерты… Спасибо тебе, родная школа, где ты теперь?
А дальше, в горку, шли Комаровы, Дементьевы, Черноволовы, еще кто-то… никак не вспомню. Был бы рядом брат, никого бы не забыли.
Заключали этот порядок улицы Пеновы, с ребятами которых я дружил. А в другом порядке, за ручьем, находился конный двор, потом стояли дома Бартковых, Рачинских, Гулиных, Устивицких, Ручевых, еще одних Устивицких, Киновых… Прямо напротив нас в чистенькой саманной украинской хате жили очень симпатичные старики — дид Грыцько с супругой. Дид, высокий, уже слегка сутуловатый казак, учил меня косить, отбивать косу и всяким другим мужским крестьянским делам…
Ходил я вот так, останавливался, думал и вдруг вспомнил свою кызыльскую спутницу, ее вопрос — куда я иду: «Это к немцам?» А ведь и раньше мне приходилось слышать, что это немецкая деревня. Из-за четырех-пяти семей, давным-давно перемешавшихся и перероднившихся с русскими, украинцами, татарами? Не мало ли?
И что это за слово такое — Блюменталь? Откуда оно тут, в глубине России, посреди башкирских степей? Да все оттуда же, откуда и башкирский аул Париж, например. Или Венеция, Швейцария.
Как-то в Уфе ко мне показать свои поэтические опыты пришел один средних лет представительный мужчина. Стихи ученические, ничего особенного не представлявшие, и я их не помню. Зато фамилия у автора была, для меня по крайней мере, выдающаяся: Блюменталь.
— Так это же название нашей деревни! — не удержался я от восторга и удивления. — Я родился не там, но там вырос. Это в Миякинском районе.
— Знаю, — усмехнулся стихотворец.
— Вы тоже там жили? Когда? Почему-то я вас не помню.
— Не я жил, а мой дед. Впрочем, сам он жил в Берлине, а здешними имениями занимались его управляющие.
— И Блюменталь…
— Так в то время было принято — называть имение фамилией хозяина. Как Аксаково — у Аксаковых, Зубово — у Зубовых, Тимашево — у Тимашевых.
— Понятно. Блюменталь, выходит, был его любимым местом?
— Да, с него и началось. После он прикупил к нему все земли от Мияков до Раевки. Ничего себе колхоз, правда? — самодовольно и снисходительно улыбнулся внук Блюменталя и сам Блюменталь. — Целое княжество!
Вспомнив эту более краеведческую, нежели литературную беседу, я стал прикидывать, где же могла находиться усадьба этого помещика-иностранца. Перебрал в памяти все дома, которые запечатлелись особенно ярко, но так ни к чему и не пришел. Школа — слишком типовое, земское строение. Дом деда Андрея Кочергина? В саду, с ульями, но деревья не плодовые — тополя, клены, акация; зачем помещику, да еще практичному немцу, такой сад?
Дом Черноволовых? Комаровых?
Может быть, Комаровых.
Но с еще большей вероятностью — Соколовых. Лучше их дома во всей деревне не было. Хотя кто его знает, этого господина Блюменталя. И что это я к нему так привязался? Сдался он мне…
Раздосадованный тем, что не могу вспомнить всех своих земляков, через уже скошенное поле направился на кладбище. Нашел могилу матери, рассказал ей о нашем горе, ведь теперь и она осиротела: ее маму, а нашу бабушку, мы недавно похоронили. В ответ мне что-то прокаркала на дереве одинокая ворона, а на плечо, неслышно слетев с поникшей ветки, мягко лег большой и прохладный кленовый лист. Точно материнская рука…
Потом, ведя в руках одолженный мне велосипед и виляя между еще не состогованными копнами соломы, я вернулся на нашу бывшую усадьбу. Здесь стоял наш дом. Перед ним росли три больших тополя и целые заросли колючей чайной розы и мальв. Тут же умудрялись найти себе местечко ярко-желтые, с коричневыми полосками чернобривцы — так бабушка на украинский манер называла календулу. Никто их не сеял, они сами заботились о себе. А о том, что на зиму розы нужно обрезать и укрыть, никто даже не задумывался, их надежно укрывал высоченный снежный сугроб.
Иногда заговаривая об отце, бабушка непременно подчеркивала две его характерные черты: то, что он любил и умел работать с деревом и что не прочь был чем-нибудь пощеголять. О первом свидетельствовал резной фронтон дома, сработанный его руками и бережно восстановленный на новом месте. О втором — висящий на стене сарая велосипед и сапоги. Велосипед был тогда редкостью, да и таких, из мягчайшего хрома, сапог еще нужно было поискать. Велосипед брат умудрился привести в порядок, очистить от ржавчины и даже покрасить, и мы на нем катались всей деревней. Ну а сапоги… Когда мы переехали в Стерлитамак и когда стало совсем голодно, я продал их на базаре сапожнику-инвалиду, а на вырученные деньги тут же купил едва ли не целый пуд муки, обеспечившей нас затирухой на несколько месяцев.
Трагедия отца, так больно ударившая по моей душе, как-то улеглась во мне, утихла. Теперь я уже знал, что арестовали его не дома, а в каком-то Ташаузе в Средней Азии, куда он спроворился за знаменитыми тамошними ситцами. В России тогда любая «материя» была в остром дефиците, а ведь без нее в семье не обойтись— и одежку пошить, и постель заправить, и дом убрать. Вот и подался за этим добром наш отец.