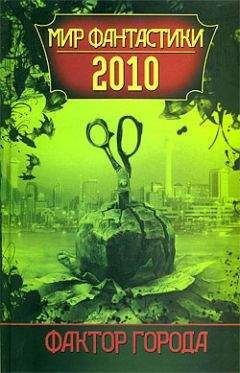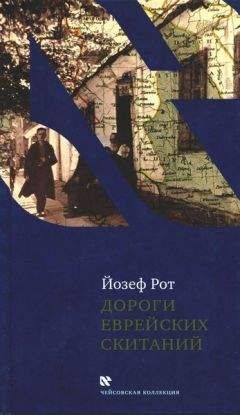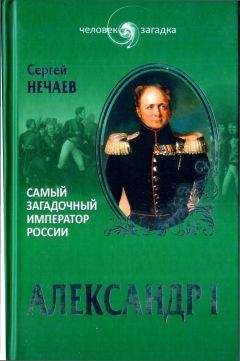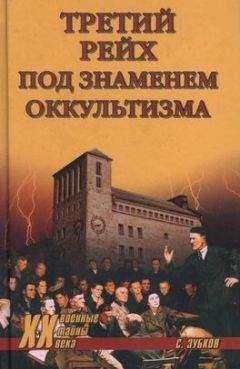Алексей Иванов - Тобол. Много званых
– У мэнэ до тэбе пыдношення, Аконя, – сказал он, стараясь не напугать девчонку, и протянул ей распятье. – Визьми соби. Цэ наш бох Ысусе Хрысте.
Айкони залюбовалась распятьем, но не взяла его из рук Новицкого.
– Красивый, – сказала она. – Чужой. Не Айкони.
– Цэ тэбе, – возразил Новицкий, – тэбе. Подарунок вит мэне.
– Нет, – уверенно ответила Айкони. – Бери себе. Приманка.
Она уже заметила, что этот странный человек словно бы преследует её – если не на деле, так в мыслях своих. Он не причинил ей никакого вреда, не пытался хватать, никуда не тянул за руку, но всё равно рядом с ним Айкони ощущала себя угнетённой, стеснённой, словно её держал кто-то невидимый.
– Тэбе трэба похрэститися, – мягко, но настойчиво сказал Новицкий.
– Зачем? – спокойно удивилась Айкони. – Мой бог – много. Везде. Айкони любит богов. Твой бог – один. Где дом и пять голов.
Она приставила к голове два кулачка, изображая луковки над церковью.
– Нэ тако, Аконя. Ысусе Хрысте всюди.
– Позови его. Придёт он? Мои боги придут.
Конечно, придут. Она позвала Сынга-чахля, чтобы добыть священный волос для князя, и Сынга-чахль пришёл.
– Я хочу сам охрэстыти тэбе, Аконя, – признался Новицкий. – З вэрою во Ысусе ти знайдэшь до волы.
Язычников-холопов, которые принимали крещение, положено было выводить из холопства. Ульяныч отпустил бы Аконю на свободу.
– С крестом я могу уйти, где Обь? Жить, где мой дом?
– Да, – кивнул Новицкий.
– И ты меня пустить?
Она испытующе рассматривала Новицкого. В коротких чёрных волосах, непривычно остриженных в круг, – седина. В ухе – серьга. Выбритые впалые щёки кажутся синеватыми. Вислые усы. Печальные очи утопленника. А её возлюбленный князь не такой. У него весёлый и хитрый взгляд. У него сто зубов, когда он улыбается. У него рыжие усы торчат как у выдры.
– Нэ выдпущу, моя кохана, – глухо сказал Новицкий и опустил глаза.
– Айкони не надо, – отодвигая распятье подальше, сказала Айкони. – Иди, где Семульча. Ты чужой. Не князь мне.
Новицкий не понимал, почему он никак не может убедить эту упрямую девчонку окреститься. Владыка Филофей говорил о том же с куда более ожесточёнными язычниками – с пленниками из Певлора, и преодолевал их сопротивление. Новицкий сам присутствовал при этом, всё видел и слышал.
Остяки Певлора сидели в губернаторской тюрьме – в большом и низком подклете под амбарами на Воеводском дворе. Владыка Филофей отправился к ним без охраны, взяв с собой только Новицкого. Они спустились в сырой, холодный и смрадный погреб. Земляной пол здесь был забросан гнилой соломой, бревенчатые стены обросли серым инеем, узкие волоковые окошки были перехвачены коваными скобами. Остяки зашевелились, узнав владыку, зазвенели кандалами. Филофей, опираясь на посох, медленно обошёл подклет, рассматривая узников. Их тут было человек десять – все в одеждах из шкур, по которым ползали вши, все обросшие, и многие кашляли.
– Узнаю тебя, Гынча Петкуров, – негромко говорил Филофей. – И тебя, Негума. И тебя, Лемата. И тебя, Етька. И тебя, князь Пантила Алачеев. Вот где довелось встретиться… Горько мне вас видеть такими.
Филофей не лукавил – ему и вправду было горько.
– Ты виноват, – глухо сказал князь Пантила из-под рассыпавшихся по лицу грязных и длинных волос.
Филофей подошёл к Пантиле.
– Я чувствую вину, – согласился он, – однако виноват не я один.
– Ты обещал, что не будешь мстить! – в голосе Пантилы звучала злоба.
Князь Пантила готов был возненавидеть Филофея – не за плен и муки, а за то, что Филофей обманул. Страдания плена остяки заслужили своим преступлением, а вот обман – это подло, это несправедливо.
– Я вас простил и не жаловался на вас губернатору, – сказал Филофей и, кряхтя, уселся на солому. – Но тогда в Певлоре я ведь был не один. Вы убили двух человек. Губернатор хотел узнать, кто это сделал, и спросил у других, кто там был, не у меня. Другие не стали покрывать вас. И губернатор должен был вас наказать, потому что вы напали на людей царя.
Пантила угрюмо и упрямо молчал. Негума, Лемата, Гынча и прочие остяки подтягивались к Филофею и рассаживались вокруг него.
– Что с нами сделают, старый шаман? – спросил Негума.
– Наверное, сначала вас изобьют кнутами. Потом увезут далеко-далеко от Оби и поселят на новом месте. Там вы будете много трудиться на полях. У вас будут свои дома и жёны, но домой вы не вернётесь никогда.
Тех остяков Певлора, которые выживут после кнута, ожидала высылка по разным обителям – на Вятку, в Казань или Сольвычегодск, в Иркутск, Якутск или Туруханск. В лучшем случае их могли отправить в Верхотурье или Далматов монастырь. Ссыльные инородцы работали в холопстве при обителях как вечноотданные монастырские крестьяне.
– Я не нападал! – гневно воскликнул Гынча. – Почему меня увезут?!
– И я не нападал!
– Это Ахута Лыгочин напал! Напал, а потом сбежал к самоедам в ваш мёртвый город Мангазей!
Остяки разволновались, зазвякали оковами. Новицкий насторожился. Он готов был отбросить любого, кто ринется на владыку.
– От тебя нам только зло, старик, – с болью произнёс Пантила. – Ты сказал нам, и мы по твоему слову сожгли идолов и «тёмный дом». А как жить без богов? И мы приняли бога торговцев, потому что он щедрый.
– Где сейчас его щедрость? – Филофей посмотрел Пантиле в глаза. – Торговцы вас обманули ради своей выгоды.
– Ты нас тоже обманул, – без колебаний сказал Негума.
– Нет, Негума, не обманул, – Филофей с трудом начал подниматься, цепляясь за посох. – Сейчас я пришёл позвать вас креститься. И тогда наш князь простит вам ваше злодейство и отпустит домой. Такой у нас закон.
Остяки переглядывались.
– Только креститься, и всё? – недоверчиво спросил Гынча.
– И всё, Гынча.
– А ты говорил, что вера поневоле не нужна ни нам, ни вашему богу, – с презрением мрачно напомнил Пантила.
– Крещенье ещё не вера, князь Пантила, – ответил Филофей, возвышаясь над сидящими остяками. – Но без него веры не бывает.
– Снова обманные слова.
– Нет, – твёрдо возразил Филофей. – Это милость. Плохо, конечно, что получается вот так, в тюрьме, а не возле своего дома и в радости, но что уж тут поделать? Даже если вы примете крещенье без веры, от страха наказанья, всё равно крещенье, прощение и воля – это добро. Какой же тут обман?
Остяки думали, и Новицкий видел, как в них разгорается надежда.
– Ладно, мы пойдём под крест, – неохотно решил за всех Пантила.
На следующий день пленников вывели из тюрьмы и отправили в баню, побрили наголо и подобрали им новую одежду. Кормить перед крещеньем их не стали, чтобы никто с непривычки не заснул. Крестил остяков сам владыка Филофей. Таинство он провёл вечером в Софийском соборе, и остяки были потрясены: только что они замерзали в подклете, а сейчас для них поёт хор, горят свечи на огромном иконостасе, и откуда-то сверху, из-под неимоверно-высокого свода, на них смотрит сам могучий русский бог. После крещенья остяков отвели в съезжую избу. А на Тобольск налетела пурга.