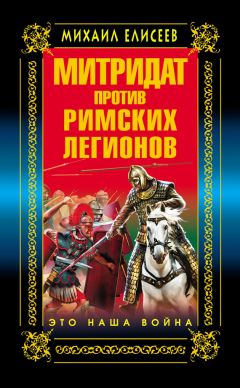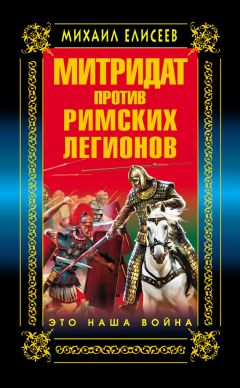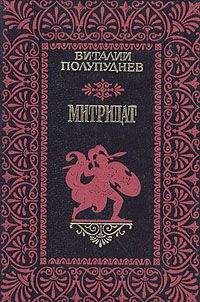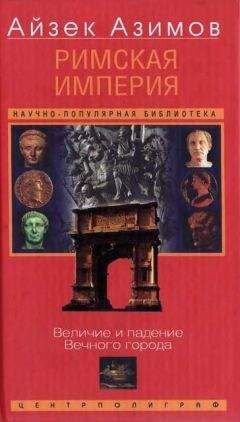Виталий Гладкий - Басилевс
– По поводу чревоугодия, мой друг, мы с тобой спорили неоднократно, – Тиранион с видимым удовольствием уплетал за обе щеки нанизанных на прут перепелов. – Откушай, – протянул он зажаренную дичь Мирину. – Ибо нам еще долго придется тереть эти жесткие скамьи в ожидании конца праздника. А чем нас угостят вечером, трудно сказать. Надеюсь, в Пантикапее спартанские обычаи не в моде, потому что черствые ячменные лепешки и скверное боспорское вино на ночь меня вовсе не воодушевляют.
– Удивительно, но сегодня я с тобой согласен, – Мирин последовал примеру приятеля, несмотря на неодобрительные взгляды чопорных служивых из посольской братии; впрочем, возможно они просто завидовали. – Видимо, в Таврике какой-то необычный воздух, возбуждающий зверский аппетит. Теперь я могу поверить рассказам путешественников, утверждавших, что степной номад может за один присест слопать целого кабана.
– Хотел бы я с ним посоревноваться, – мечтательно вздохнул грамматик. – Но чтобы обязательно было хорошее вино, пусть даже, согласно скифскому обычаю, и не разбавленное водой.
– Надеюсь, возможность воочию увидеть это прелюбопытнейшее зрелище мне не представится, – поэт изобразил испуг. – Дело в том, что тебе терять нечего, – и он со смехом показал на лысину толстяка, – а мой скальп, – Мирин дернул себя за густые ухоженные волосы, – пока еще мне не надоел.
– Начинается! – вскричал Тиранион, от возбуждения едва не уронив перепелов на доски помоста. – Смотри, сейчас распорядитель подаст знак и…
Его голос тут же растворился в невообразимом реве, пронесшемся над гипподромом, – глухо ухнул большой тимпан, и всадники, горяча коней, вихрем сорвались со старта.
– Мирин! – пытаясь перекричать неистовствующих почитателей одного из древнейших видов состязаний, Тиранион едва не ткнулся в ухо поэта. – А ведь мы с тобой не поставили ни на одну лошадь. Это неинтересно.
– Согласен! – неожиданно принял его предложение Мирин. – Выбирай, только поскорее.
– О, боги, ну и задачка… – грамматик с расширившимися от возбуждения глазами смотрел на скакунов. – Вон тот, вороной.
– Великолепный конь, – поэт напряженно размышлял. – А я, пожалуй… да, именно! Рискну! Выбираю буланого.
– Сколько ставишь?
– Пять ауреусов.
– Ого! Я, конечно, принимаю твои условия… – Тиранион саркастически ухмыльнулся. – Но, мой любезный друг, мне кажется, твой выбор несколько странен. Я не предполагал, что ты так плохо разбираешься в лошадях. Этот буланый – полукровка. Даже сам Аполлон на таком одре вряд ли придет первым. Но я готов чуток подождать, пока ты не изменишь решение. Понимаешь, мне будет стыдно воспользоваться твоей неосведомленностью в подобных делах.
– Этот, и никакой иной, – Мирин упрямо боднул головой.
– Как знаешь… – вздохнул с напускным смирением грамматик, втайне радуясь – упрямство Мирина вошло в поговорку среди понтийских мыслителей и поэтов, и Тиранион, достаточно хорошо зная характер друга, своим предложением только подбросил дров в огонь; теперь он был совершенно уверен, что пять ауреусов вскоре зазвенят в его кошельке.
Уже на втором круге чистокровные мидийские жеребцы доказали свое преимущество. Их тонкие, стройные ноги мелькали с такой скоростью, что рябило в глазах. Парфянские скакуны держались несколько сзади – их время должно было наступить чуть позже, когда пройдет первый запал, и начнется игра нервов и мастерства наездников. Кони Парфии обладали удивительным свойством – они были «думающими». Главное для седоков заключалось в том, чтобы не мешать им выбрать наиболее удобную позицию для решающего рывка; дальнейший путь они просчитывали с изумительной точностью, как самые выдающиеся математики древности.
А что же полукровки? Они отстали на четверть круга, и зрители даже не обращали на них внимания – там было все известно заранее. Их богатые хозяева-купцы потрясали полными кошельками, будущей наградой победителю, стараясь таким образом воодушевить и подстегнуть наездников, но те, раздосадованные неудачным жребием, заведомо лишившим их даже малейшей возможности, как им казалось, надеяться на победу, были совершенно равнодушны к этим посулам и теперь лелеяли надежду только сократить расстояние с основной группой.
Один Савмак был хладнокровен и уверен в силе и скорости своего жеребца. Он каждой частицей тела ощущал, как постепенно разогреваются железные мышцы коня, как его широкая грудь все больше и больше захватывает напоенного пылью воздуха, и кровь мощными толчками пульсирует в жилах, питая энергией неутомимые ноги. Склонившись к шее жеребца, Савмак шептал ему какие-то нежные слова на родном языке, и животное, чьи предки носили на спине не одно поколение скифов, будто понимало этот удивительный монолог, все прибавляя и прибавляя в искрометном стелющемся беге.
На десятом круге наконец показали свои способности и парфянские жеребцы. Сначала один, игреневый красавец из конюшни царя Перисада, каким-то чудом проскользнул в неширокую щель между крупами двух хрипящих от натуги мидийцев и возглавил забег, а затем и второй, вороной в белых чулках, надежда его владельца спирарха Гаттиона, протаранив скопище впереди, пристроился к нему в хвост. На царской трибуне раздались ликующие крики, и Перисад не замедлил поднять чашу во здравие Матери Кибелы.
– Удивительное невезение… – с напускным смирением ханженским голосом сказал Тиранион, обращаясь к Мирину, не отрываясь смотревшему на скаковое по– ле. – Лучше бы я выбрал игреневого. Вороной, спору нет, хорош, но наездник на нем никчемный.
– Тебе поговорить не о чем? – едва сдерживая рвущийся наружу азарт ответил Мирин, и неожиданно быстрым движением отобрал у грамматика бурдючок с остатками вина. – Жди и надейся, лицемер… – с этими словами он осушил кожаный сосуд и небрежно ткнул его в руки оцепеневшего приятеля.
Потерявший дар речи Тиранион с горестным мычанием уронил пустое вместилище драгоценной влаги под ноги и обратил свой страдальческий взор на скаковое поле.
А там происходили события совершенно невероятные с точки зрения рассудительных и практичных пантикапейцев: в группу возглавляющих гонку чистопородных жеребцов вклинился буланый полукровка; его хозяином был небогатый купец Аполлоний, известный жмот и сквалыга. Он сидел неподалеку от понтийских послов, в безумной надежде на удачу сжимая в пухлых ладонях варварский оберег – крохотную бронзовую фигурку скифского бога Гойтосира, покровителя стрел и всадников. Буланого ему уступил по сходной цене номарх царя Скилура, для которого Аполлоний привез в Неаполис дорогой эллинский панцирь, шлем и кнемиды. Этот конь стал среди богатых людей Пантикапея притчей воязыцех: жадный Аполлоний запросил за него такие деньги, что на них можно было купить двух чистокровных жеребцов. Желающих заплатить не нашлось, а купец стал посмешищем, и его собратья по торговому ремеслу обычно приводили своим подмастерьям и ученикам этот случай как пример человеческой благоглупости и неумения вести дела.