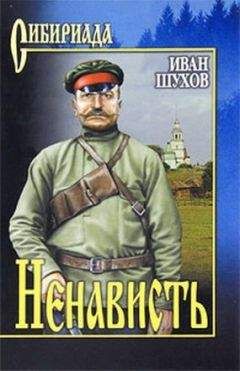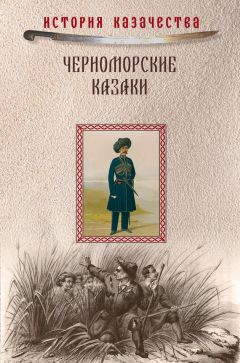Горькая линия - Шухов Иван
— Богом прошу, ваше высокоблагородие, уйдем от греха подальше. Богом прошу…
И Скуратов, точно очнувшись, поднял свои остекленелые бесцветные глаза на драбанта, резко повернув коня, пришпорил его и, не оборачиваясь назад, поскакал прочь.
Вслед за полковником, поминутно озираясь на неподвижно стоявших позади джатаков, полетел ни живой ни мертвый, втянув голову в плечи, и Авдеич.
Станичные власти во главе с атаманом Муганцевым и в присутствии понятых — школьного попечителя Корнея Ватутина, фон-барона Пикушкина и вахмистра Дробышева — начали опись имущества у разжалованных казаков с Агафона Бой-бабы. Атаман в сопровождении трех понятых и целого полувзвода вооруженных шашками обходных явился в избушку Агафона Бой-бабы утром, застав Агафона с семейством за чаепитием.
— Ну хватит, почаевничали. Кончай базар,— сказал фон-барон Пикушкин, с ходу взявшись за старенький, но ярко начищенный самовар.
Не понимая в чем дело, четверо малолетних внучат Агафона — детей без вести пропавшего на фронте сына Бой-бабы — изумленно и испуганно таращили на непрошеных гостей свои большие светлые глаза, не зная еще толком, реветь ли им или удивляться.
Между тем, схватив со стола бурно кипящий самовар, фон-барон потащил его из избы. А маленькая, сухая, похожая на подростка старуха Агафона Маркеловна тут же бросилась перед атаманом Муганцевым на колени и, задыхаясь от воплей и причетов, начала цепляться своими заскорузлыми, негнущимися пальцами за высокие лакированные голенища муганцевских сапог и целовать пыльные их шагреневые носки.
Муганцев брезгливо оттолкнул старуху и сел к столу напротив примостившегося на лавке писаря Скалкина, принявшегося за составление протокола.
Попечитель Корней Вашутин с вахмистром Дробышевым, открыв старенький, окованный медными ленточками сундучишко, бесцеремонно выбрасывали из него на пол всякое тряпье — нехитрые праздничные и будничные наряды снохи Агафона, молчаливой, равнодушно смотревшей на белый свет, рано постаревшей Домны,
рубашонки и застиранные ситцевые платьишки ее четверых ребят.
С брезгливым видом перебирая все эти тряпки, Корней Вашутин говорил, поглядывая на писаря:
— Пиши. Три сатинетовых платья. Одно — с кружевной пелеринкой. Два — с оборками…
— Цена какая, Корней Маркыч?— спрашивал писарь.
— Пиши. Пиши. Ценить потом будем,— строго сказал Муганцев.
— Дальше,— продолжал Корней Вашутин.— Фланелевое одеялишко. Три ситцевых наволочки. Кружевная бабья фаниженка — модный платок.
Все четверо агафоновских внучат, один одного меньше, столпившись вокруг открытого сундука, с любопытством поглядывали на тыловую сторону его крышки, украшенную цветными картинками из конфетных и чайных оберток.
Агафон, услужливо уступив свое место атаману Муганцеву, сам стоял теперь возле печки и такими же тупыми, безучастными глазами, какими смотрела на все происходящее в избе его сноха, глядел на бесцеремонно роющихся в тряпье понятых и на задыхавшуюся от плача старуху. Маркеловна, бессильно опустившись на лавку, обхватила свою седую взлохмаченную голову руками, выла, покачиваясь из стороны в сторону, точно страдая в эти минуты от приступа чудовищной зубной боли.
— Сколько за ним недоимок числится в казначействе?— кивнув в сторону Агафона, строго спросил писаря атаман Муганцев.
— По шести казначейским книгам — семьдесят три рубля двадцать восемь копеек, господин атаман,— ответил писарь.
— Да, должок с походцем. А имущества — кот наплакал,— сказал фон-барон.
— Всех их с гамузом продать — не рассчитаться, — сказал вахмистр Дробышев, кивая на присмиревших около сундука и с любопытством глазевших на цветные картинки ребятишек.
— Ну, там — сколько хватит. А прощать казначейские долги такому народу мы не будем,— сказал атаман Муганцев.
— А как же с избой?— спросил фон-барон Муганцева.
— Что как? Известно — в опись. У тебя живность какая-нибудь в хозяйстве водится?— спросил Муганцев, обращаясь к Агафону.
— Кака така живность. Последнюю коровешку на масленке продали,— ответил за тупо молчавшего Агафона фон-барон.
— А птица? Ить у него полдюжины кур,— крикнул из-за дверей вышедший для осмотра двора вахмистр Дробышев.
— Пиши. Пиши и кур,— сказал озадаченному писарю Муганцев.
Недоимки по шести казначейским книгам, о которых говорил писарь Скалкин, числились за Агафоном Бой-бабой уже около пяти лет, со времени проводов его без вести пропавшего теперь на фронте сына Феоктиста на действительную службу в полк. И конь и обмундирование для Феоктиста были приобретены на деньги, выделенные из казначейства, которые он, Агафон, как. отец служивого казака, обязан был погасить в течение пяти лет с уплатой известного установленного указом наказного атамана процента. Все надежды на уплату этих недоимок возлагал Агафон, как и всякий бедный казак, на земельный надел Феоктиста. Но земля, доставшаяся служивому казаку при разделе войсковых пашен, оказалась суглинистой, и сбыть ее с рук, даже по дешевке, Агафону не удалось. Строевой конь, на котором уходил в полк Феоктист, сдох на второй же месяц после возвращения служивого казака в станицу. Четыре года после возвращения из полка батрачил сын Агафона Феоктист вместе с Домной по чужим хозяйствам. Всеми правдами и неправдами норовила за все эти годы семья Агафона сколотить лишнюю трудовую копейку, чтобы расквитаться с казначейством. Но выходило все как-то так, что недоимки обгоняли доходы, и выбраться из долгов и нужды семейство так и не сумело. А тут, как снег на голову, война. Снова пришлось кланяться в ножки станичному обществу и выпрашивать вспомоществование для сборов сына на фронт.
Так вот и шло одно к одному и рвалось, как говорится, там, где было тонко. А теперь вот заметалось подчистую последнее, что было нажито за долгие годы скупой на радости жизни каторжным, пропитанным кровью и потом трудом.
Больше всего сейчас убивало почему-то Агафона то обстоятельство, что у него забрали со стола горячий самовар. Он не думал ни об избе, подлежавшей теперь продаже с молотка на общественном торге, ни о бедном своем подворье, ни об остальном каком-никаком имуществе. И только при мысли о самоваре сердце его обливалось кровью и в глазах тускнел божий свет. Как и большинство людей, Агафон в минуты душевного потрясения не кричал, не плакал, не протестовал, а стоял оглушенный бедой, безучастный ко всему на свете, в том числе и к задыхавшейся от причетов Маркеловне.
Покончив с описью в хозяйстве Агафона Бой-бабы, Муганцев в сопровождении понятых и наряда обходных пожаловал во двор Архипа Кречетова. Архип встретил станичные власти громким, нервически восторженным криком. Выскочив из-за стола навстречу представителям станичной власти, Архип, разбросив руки, крикнул:
— А-а, явились?! Прошу пожаловать. Едва, воспода станишники, вас дождался…— И он, сорвав со стола старенькую, прожженную самоваром клеенку, швырнул ее под ноги Муганцеву, а затем начал бросать под ноги понятым все, что попадалось под руку: зипун, сорванный с вешалки, старенькую шлею с медным набором, подшитые валенки, залатанный на локтях форменный свой полковой мундир.
— Да ты тихо, браток! Не дури. Мы сами знаем, что нам понадобится!— попробовал прикрикнуть на Архипа Муганцев.
— Ну нет. Извиняйте на этом!— кричал запальчиво Архип.— Ежли описывать — забирайте все подчистую. Все. До нитки. У меня чтобы завтра в дому — хоть шаром покати. Мне для нашего войска последних штанов не жалко. Трех сыновей не пожалел. Праведной кровью собственных чад пожертвовал. А теперь для меня — все едино. Не казак я больше в своей станице. Не житель. Все прахом. Как после пожара — дотла!
— Не казак, говоришь? В варнаки захотелось?— крикнул с порога фон-барон Пикушкин.
— Правильно, фон-барон. В варнаки. Мне ить одна теперь дорога!— продолжал кричать Архип Кречетов, кидая из кухни к ногам понятых оцинкованные тарелки, ухваты, чугунки и поварешки.
Муганцев шепнул обходным:
— Взять его.
Четверо здоровенных бородачей, гремя болтавшимися на них шашками, бросились было к Архипу Кречетову. Но он, вооружившись кочергой, отпугнул от себя растерявшихся обходных и, не выпуская кочерги из рук, пулей вылетел из избы на улицу. Обходные, погнавшиеся было вслед за Архипом, были остановлены Муганцевым.