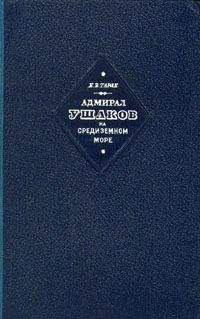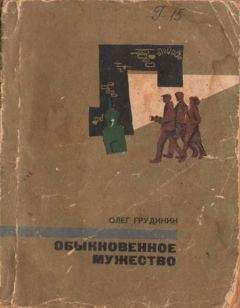Андрей Воронов-Оренбургский - Андреевский флаг (фрагменты)
– Святая Троица, да ты никак уже «плюхнул»? Залил за ворот с утра пораньше? – Перед ним мелькнуло удлиненное отчаяньем лицо Евдокии Васильевны. – Чудеса-а, да и только!
– Мы без этого не можем. Ступай, баба.
– Так ты надрался? – Она вновь попыталась протиснуться, заглядывая ему в глаза.
– То тайна за семью печатями. Тебе знать незачем!
– И...
– И маять меня посему – тем паче. Имею пр-раво! – Он с невыразимой тоской бегло оглядел бледное лицо жены и цвиркнул с досадой. – Да уж, не помолодела. Сгинь! Прибью, муха!
Но Евдокия Васильевна – волю в горсть – и на сей раз решила не спускать мужу.
– А н-ну! Пр-ропусти, дьявол!
Она и сама не поняла, как оказалась в его объятиях; жесткие, как проволочная щетка, усы царапнули щеку.
– Ваня! – В голосе был страх и что-то беспомощное, детское. Словно так огромно было несчастье, что уже невозможно ничего поправить и глупо драпироваться гордостью и скользкими, лукавыми словами, за которыми люди обычно скрывают истинные чувства.
В молчаньи они прошли к столу; он, потупив взор, стянул с головы парик, утер им взятый испариной лоб; она присела рядом на софу и измученно посмотрела ему в лицо: портьеры были наполовину задернуты, и в сумраке оно казалось бледным, с отливом олова, как у покойника, неподвижным. Светлые, с песчаной зеленцой глаза с подозрительной раздраженной усталостью косились на нее, словно говоря: «Ну чего тебе от меня надо? Оставьте вы все меня в покое! Все прахом пошло. Деньжищи-то какие коту под хвост брошены!»
– Ну зачем ты так изводишь себя? Еще не вечер, вдруг да кто навернется?
– Кто-о?! – Он злобно усмехнулся и поворотил от нее нос.
– Кто, кто? Гости твои, вестимо...
– А-ай, будет! – Граф сцепил зубы, прицелившись взглядом на недопитую рюмку, как кот на мышь, и цап ее, ан поздно – жена оказалась проворней. – Евдокия-а! – Панчин поднял было голос, но потом потерянно махнул рукой. – Может, ты и права, Доня... Уноси отраву... Всех денег не заслужить, всю водку не выпить. Одно мне ясно, где собака зарыта! Тс-с! – Он бросил палец к губам. – Тут дело государственное, коли никто не явился. Не нам – Богу судить деяние царей! Но мне-то, матушка, от сего не легче...
– А-а-а! – длительным стоном отозвалась давно увядшая грудь графини; в темных кротких глазах замерцал страх. – Типун тебе на язык... Ты думаешь?..
– А тут и думать ни черта! – передернул плечами граф. – Ежу понятно – грянуло, стало быть! Ничего, скоро и до нашего затвора... горевестнички долетят... Жаль вот только, уж не держать моей руке сабли. Ладно, ступай, матушка. Отдохни, не печалься. Прилягу я, Доня... тошно мне. Может, Бог даст, усну.
...Она безмолвно повиновалась; оглядчиво прихватила тяжелый графин и, трижды перекрестив в изголовье, хотела уходить, когда цокающий, заполошный стук каблучков разбил «мертвое царство» дома Панчиных. Двустворчатые двери шумно распахнулись по сторонам, и в кабинет влетела в розовом платье с белым поясом, в облачке словно глазированных, скачущих вверх-вниз черных кудряшек – Машенька. В прелестных, ярких, как звезды, глазах и во всем ее милом юном существе светилась неприкрытая, правдивая радость. На миг растерявшись от тишины и унылого безобразия, она замерла на пороге, точно ждала, когда рассосется эта синяя полутьма.
– А тебе чего, стрекоза?! – теряя терпение, с накипающим гневом вопросил граф. – Какого беса без стука? Эт-то что за пляски с бубном?! Али мне розги забытые взять?
– Батюшка! Маменька! – Она, казалось, не слышала угроз; не чувствуя своего тела, подпрыгнула на одной ножке и звонко хлопнула в ладоши: – Григорий Алексеич Лунев прибыли!
– Что-о?! – Старый граф по-молодецки соскочил с промятой софы, схватился за брошенный на столе парик; маменька, по настоянию супруга затянутая в пюсовое платье, с алмазной фероньеркой[30] на пудреном лбу, с открытыми дряблыми плечами, испуганно и высоко вздохнула грудью и, не выпуская «трофей» из рук, радостно охнула:
– Бог милостив! Ваня, счастье-то какое!
...За спинами собравшихся послышались быстрые, четкие шаги. Панчины обернулись: в дверях, с треуголкой у груди, при офицерской шпаге, стоял загорелый лицом капитан петровского флота Григорий Лунев.
* * *...Когда радостная заполошная суета-кутерьма с «целовк?ми», охами-вздохами и объятиями поутихла, старый граф, преисполненный хозяйского долга, враз взял бразды правления в свои руки; подхватил всех своим зычным призывом и властно, подобно морской волне, увлек за собою к столу.
На пути его, как подножка, подвернулся дворецкий. Сияющий, что медный алтын, он уверенно нес навстречу твердыми шагами свое крупное, раскормленное тело.
– Так как же-с насчет тарталеток с выдолбкой, ваше сиятельство? С мозгами «шведскими» ромбиком? – насыпался Осип.
Данный вопрос, еще с утра понятный, злободневный, теперь, как дробь в дичи, попавшая на зуб, взбесил Ивана Евсеевича.
– Какие к черту «ромбики»? Какие к дьяволу «мозги»? У тебя-то, остолопа, оне есть? Отстань от меня со своей хренью! Не видишь, гость у нас дорогой! Жених Машуткин... Сгинь, варвар!
Квадратные каблуки графа гневно стучали вдогон ушедшим, а в спину ему полетело обиженное:
– Сие будет воля ваша... Но больше не ждите «эврик» от Осипа. Ишь ведь... скажет тоже... хрыч: «Осип, черт тебя носит! Совсем заматерел в болванстве своем? Гляди, каналья, переведу в конюхи!» Ну, ну, свежо преданье... То ты не знаешь, старый перец, что без Осипа тебе ни туды и ни сюды!
* * *...Странно и неуютно, как будто голо было находиться за огромным многосаженным столом, на котором искрились сотни хрустальных фужеров и рюмок; подобно слюдяной плотве, сверкало уложенное густыми ровными рядами серебро приборов и прочих, прочих столовых «надобностей» для приема самого блестящего общества...
Но все встало на свои места, когда капитан Лунев, с непокрытой головой, с серьезной строгостью в лице, без лишних слов сообщил Панчиным:
– Крепитесь, Иван Евсеевич... и вы, милейшая Евдокия Васильевна. Час испытаний для Отечества пробил. Война со Швецией началась. Союзники наши разбиты. Карл Двенадцатый рвется к Нарве. В Москве переполох.
– Святые угодники! – Графиня испуганно вскинула к своей оголенной белой шее руку в перстнях, будто ей было холодно. Ее и в самом деле знобило от услышанного.
Граф тоже подавленно молчал. Похоже, он не узнавал своей праздничной залы. Словно все стало чужим, подмененным. Хотя все было как всегда и на своем месте. Он даже не узнал Евдокии Васильевны, как-то враз съежившейся, уменьшившейся в своем бордовом пюсовом платье.
– Господи, Гришенька, э... это... правда? – Супруга Панчина вся была растерянная, жалкая.