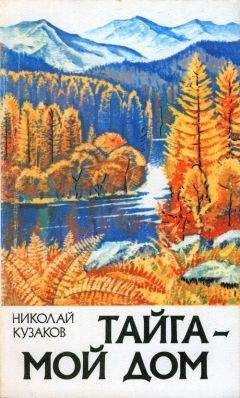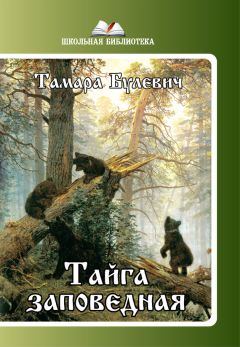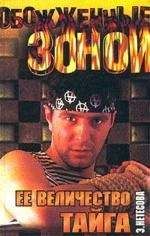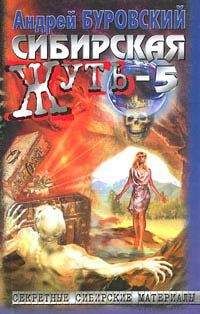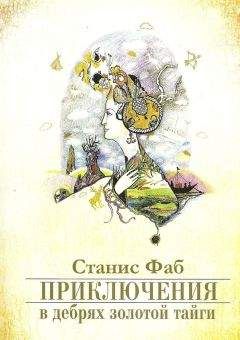Оксана Духова - Хозяйка тайги
– Старым людям надобно играть с воспоминаниями у камелька, а не в политику новых времен соваться да с бабами безмозглыми воевать! Павел Михайлович, вы все еще рядитесь в старые обноски былого – так оставьте нас в покое!
– Коли новые ваши времена допускают подобное безумие, я рад, что мое место у печки! Мятеж мужей ваших – да есть ли что глупее? Али то революция на манер французской была?
– Да, глупо! – Трубецкая все еще прикрывала собой Ниночку, словно медведица своего детеныша. – А посему не вышло ничего. Наши мужья оказались там, по другую сторону жизни. Так относитесь к ним, как к людям, а не как к зверью дикому! – Княгиня вскинула предостерегающе руки, едва Кошин собрался приблизиться к ней. – Стойте там, где стоите, Павел Михайлович. У вас за спиной десять безмозглых баб только того и ждут, что вы сдвинетесь с места, дабы поджечь ваш такой красивый мундир времен Очакова и покоренья Крыма.
Кошин оцепенел. Ему не было нужды оглядываться, сие было ниже его достоинства, он и так знал, что княгиня Трубецкая говорит сущую правду.
– Мне надобно поговорить с Ниночкой, – поспешно произнес он.
– Зачем?
– Али я ей не отец?
– Да ей рыбы в Неве поболее близки, чем вы.
Кошин шумно выдохнул воздух.
– А это пусть она сама мне скажет, княгиня. Или ей для переговоров уже и парламентарии надобны? Я точно помню, что родилась она у меня не безъязыкой. До сего дня щебетать могла, что твоя птичка.
– Уж больше никогда не буду! – громко выкрикнула Ниночка и сделала пару неуверенных шажков к отцу. – Я больше уж никогда не смогу смеяться, папенька.
– А лгать? Лгать-то ты еще как можешь!
– Если то надобно во имя Бореньки, то даже ложь не во грех, а во счастье.
– Вот что сталось из тебя! Господи, и за что так караешь меня, грешного? – Кошин глядел на дочь и понимал, что теряет, теряет безвозвратно единственное свое дитя. Коли и стоит сейчас перед ним Ниночка, статная, красивая, в шубке своей песцовой, то только потому, что Царь пока не приговорил Бориса Степановича ни на казнь, ни к Сибири. А оттуда никто еще не ворочался.
Кто в дебрях таежных исчезал, тот переставал существовать для остального человечества.
– А почему вы здесь? – едва шевеля языком, так тяжко было ему говорить в момент сей, спросил Кошин. – Что с того изменится? Неужто царя заставить вас слушаться хотите? О, господи ты боже мой, экие вы неразумехи! Вас же погонят отсюда, как котенок бродячих!
– А мы только того и ждем! – выкрикнула Волконская. – Пусть вся Россия видит то и слышит!
– А что потом? Жизнь-то на сем не кончится! Парочкой знатных дам больше, парочкой меньше, что с того России? Ниночка…
– Папенька?
– Возвращайся домой.
– Нет, – Ниночка сжалась, как от удара. Ее худенькое, прелестное личико окаменело. И лишь глаза жили, а в уголках их трепетали слезы, превращавшиеся в льдинки на холодном ветру.
– Я велю привести тебя домой со взводом солдат! – закричал Кошин.
– Вы не посмеете, даже если сам царь посмеет! – горделиво вскинулась Трубецкая. – Уходите, Павел Михайлович. Что ведомо вам о женской любви? Да, вы женились, вы зачали ребенка, ибо так велит природа. Но задавались ли вы хотя бы раз вопросом, а счастлива ли графиня Марина Ивановна с вами?
– Моя жена? Конечно, счастлива!
– Вы как будто приказ на счастье отдаете! Она счастлива, потому что обязана быть счастливой! – И Трубецкая хохотнула коротко и мрачно. – Бедный Павел Михайлович, вы промаршировали в параде мнимостей мимо реальной жизни. Оглянитесь вокруг – эти женщины любят своих избранников и в радости, и в горе! Даже если те сгоряча и понаделали глупостей.
– А в Сибири? Тоже любить будут?
– И в Сибири тоже, папенька, – в гробовой тишине прошептала Ниночка.
– Да мы повиснем на тех телегах, что увезут от нас наших мужей, – Трубецкая устало потерла замерзшее лицо. – И коли надобно, сами впряжемся в те сани, в те телеги. Поймете ли вы меня, граф?
– Нет, – бесстрастно отозвался Кошин. – Нет.
– Вот я и говорю, Павел Михайлович: бедный вы, бедный. Вы не знаете, что такое любовь. Уезжайте-ка вы в свой дворец, вы нам без надобности, мы и так знаем, что нам делать.
Кошин в бессильной ярости и отчаянии сжал кулаки. Он замерз; тонкая материя мундира не держала тепла. Мундир был старым, во многих местах пробитым уж молью. За старой формой не следили, ибо сам Кошин и в мыслях не держал, что одеяние сие когда-нибудь еще сумеет ему пригодиться.
– Пойдем домой, ласточка моя, – попросил он, и голос его предательски дрогнул.
Ниночка устало покачала головой.
– Нет, папенька. Пожалуйста, уходи…
– Маменька твоя умрет с горя, когда узнает…
– И Боря умрет, если меня с ним не будет, – Ниночка отвернулась и медленно пошла к костру. За ней сомкнулась стена из онемевших от горя женщин, как будто двери узилища сырого захлопнулись. Навсегда. Сердце Кошина пропустило удар.
«Царь, – подумал он. – Здесь может помочь лишь он один! Я буду валяться у него в ногах, как пред иконостасом со всеми святыми угодниками. Ниночка, дитя мое любимое… Что знает Трубецкая о любви! Она фанатична не в меру, она сгорает в пламени сердца. Но когда прогорит сей огонь, что от нее останется. Господи, Ниночка, неужто и ты хочешь золой ненужной сделаться?»
Он пошатнулся, как от удара, а потом бросился к возку.
– Гони! К государю! – крикнул он. – Гони, сукин ты сын! Я отправлю тебя на съезжую, если твои лошади не окажутся самыми быстрыми в Петербурге.
Кучер из графской челяди, чьи прадеды еще принадлежали Кошиным, весь сжался от угроз и оходил плеткой лошадей. Те с места взяли в карьер. Кошина мотнуло с силой, едва не вылетел из собственных саней-то. Еще никогда доселе не мчались по ночному Петербургу тройки с безумной такой скоростью.
Что тогда было говорено меж Кошиным и императором Николаем Павловичем, мы никогда уж не узнаем. Караул, стоявший у дверей, рассказывал позднее лишь о том, что граф Кошин вышел из государева кабинета – без орденов и эполет, – так, как будто царь дрался с ним на кулаках.
Все было не так. То Кошин бросил царю под ноги ордена свои и аксельбанты, моля о том, чтобы сослал его император в Сибирь, потому что он сейчас ему всю правду в глаза скажет. А царь брезгливо раздавил сорванные символы чести и доблести сапогом, а затем заметил спокойным, совершенно бесцветным голосом:
– Я все припомню вам, любезный мой Павел Михайлович, когда будет на то время.
Что было сказано до того и после, покрыто тайной.
Зато почти каждый вскоре мог увидеть, как гнался чрез весь дворец – на улицу – Кошин, вооружась длинной плеткой, за кучером Мироном Федоровичем. И бил Мирона, бил, пока тот не свалился без сознания, а снег не стал красным от крови. После чего Кошин пнул с силой кучера под ребра и ушел, оставив того валяться на улице.