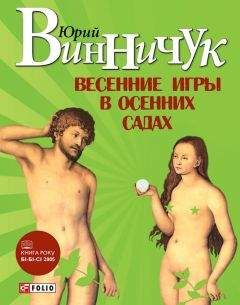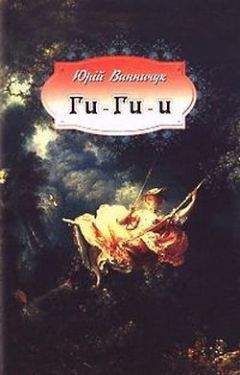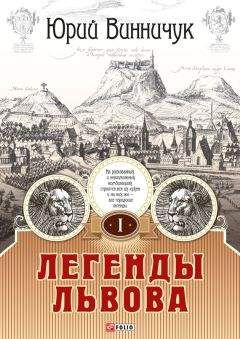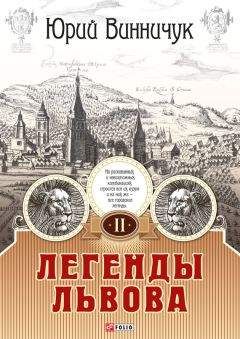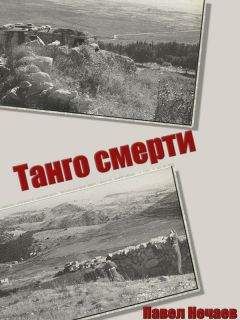Юрий Винничук - Танго смерти
Кныш вытаращил глаза.
– Да, неумышленно. Я только украсил цветами комнату, в которой они спали после перепоя. Но цветов оказалось слишком много. Вот мы и похоронили их в двух могилках под видом жи… простите, евреев, как теперь принято говорить. Могу могилы показать. Пора бы уже там какую-нибудь тумбу красную установить. А хотите, я вам на идише прочитаю стихотворение Ицика Мангера[111]? Я еще со школы помню.
Раздвоенный Цибулько уже даже наморщил лоб и приготовился декламировать, но Кныш его остановил:
– Постойте. Объясните мне одну вещь. Когда ваше второе «Я» вели на расстрел, что оно перед смертью слышало?
– Что слышало?.. – человечек задумался. – Что слышало… Как что! Крики и рыдания – вот что я слышал. Нас было несколько тысяч, расстреливали партиями, и женщин, и детей… Все плакали, выли, детей пытались успокоить… Кошмар…
– И это все, что вы слышали?
– Еще пулеметная очередь была. Это последнее, что я слышал.
– А музыка? Музыка была?
– А-а, музыка? Ну, конечно же – оркестр играл. Но, знаете, он играл постоянно, непрерывно. Никто и внимания не обращал. Это уже как шум ветра или шелест деревьев.
– Не можете вспомнить, что именно играл оркестр?
– Марши какие-то… Вальгауз, наш комендант, очень любил марши.
– А танго?
– Танго… было и танго… Это уже Рокита настаивал, чтобы танго играли. Вот и племянник мой там играл – Йоська! Вы бы меня с ним свели, я б вам сразу доказал, что не вру.
– Хорошо, – сказал Кныш, закурил и постучал зажигалкой по столу. – Теперь припомните момент, когда вы осознали, что в вас всплыло это вот второе «Я».
– Я и сам не знаю. Вот иду себе по улице, иду, и вдруг – бац! – и готово! Я уже не тот, кем себя считал столько лет. То есть тот, но не вполне.
– Вы что-то услышали в тот момент? Может быть, какие-то звуки…
– Звуки… Меня чуть джип не переехал «Мицубиси-паджеро». Когда он забибикал, я подпрыгнул. А между прочим, я переходил на «зеленый». Это меня вывело из равновесия, до этого я чувствовал себя вполне спокойно, думал о чем-то приятном. А когда перешел улицу, почувствовал, как у меня давление подскочило. Не знаю, вы слышали, что «паджеро» на латиноамериканском сленге означает «пидарас». Меня всего просто затрясло от ярости. И вот тогда это и произошло, я хотел было крикнуть ему вслед: «Ты, паджеро!», а закричал что-то совсем другое: «Мамзер![112] Мишигин!» Представляете? А тут вдруг слышу – что-то наплывает на меня… Так, знаете ли, нежно-нежно меня обволакивает, как куколку шелкопряда… Я замер, и тогда до меня дошло, что это играет скрипка. Я музыку люблю, но никогда не прислушивался к уличным музыкантам. А тут замер, стою и вбираю ее в себя, как солнечную ванну.
– А кто играл? Видели?
– Нет. Скрипка играла где-то вдалеке. Я даже не знаю, откуда доносилась музыка – с улицы или из окна.
– Где это было?
– Как раз возле церкви Анны.
– Ближе к Клепаровской?
– Да, я как раз перешел на ту сторону улицы. Вот тогда, собственно, я и стал другим человеком. Какая-то сила повлекла меня на Замарстыновскую, я был убежден, что живу именно там, но когда постучал в дверь моего дома, увидел незнакомых людей. Тогда я сообразил, что что-то тут не так. Я извинился, вышел, обшарил карманы и, к счастью, нашел неоплаченную квитанцию за газ. Тогда я отправился по указанному адресу и попал домой. А потом свалились на мою голову и другие проблемы. Вы же видите, что я не сумасшедший? Поговорите с ними, чтобы меня выписали. Если вы настаиваете, я могу держать эти свои новые знания при себе. Единственное, что хотелось бы, – это встретиться с Йосиком. Моим любимым племянником.
– И что вы ему скажете? Что воскресли, как Лазарь?
Кныш встал, взял папку под мышку и направился к двери, а человечек кричал ему вслед:
– Не оставляйте меня здесь! Не оставляйте! Я готов все забыть! Слышите? Все! – И шепотом добавил: – Кроме моего любимого Йоселе…
Y
Теперь воспользуюсь дневником Йоськи и прилежно перепишу все то, что происходило в городе, пока я сидел в каталажке. Йоська, которого, как и Лию, должны были арестовать, спрятался на чердаке и просидел там целый месяц.
«На рассвете 22 июня 1941 года Львов начал снова, как и в сентябре 1939-го, сотрясаться от взрывов, в небе загудели немецкие самолеты, и бомбы упали на вокзал и на Скниловский аэродром, превратился в руины пассаж Миколяша с двумя десятками зрителей, которые находились в кинотеатре, хотя летчики целились в Главную почту, но смазали, и вдобавок уничтожили еще и церковь Святого Духа возле почты, а вместе с ней еще три сотни домов. Фронт не успел приблизиться к городу, а высокая элита освободителей уже бросилась бежать, пакуя на грузовики награбленное – ковры, покрывала, люстры, постельное белье, сервизы, картины, посуду, одежду… Эти грузовики напоминают пирамиды, а так как упаковывались в спешке, по дороге много чего падает и бьется. «Давай! Давай! Давай! Давай!» – слышится отовсюду, подгоняют друг друга, кричат, матерятся, неукротимый страх гонит их на восток, и они готовы даже давить своих солдат, которые, отступая, мешают им продвигаться вперед, равно как и грузовики с амуницией, прикрытые ветвями.
Майор, который квартировал у дяди Зельмана, расплатился с ним и сказал, чтобы тот потратил все деньги на еду. В городе паника, водопровод поврежден, воды хватит разве что недели на две.
Наступает ночь. Полосы света пересекают небо. Трамваи стоят.
24 июня, вторник. Вчера я стоял на Казимировской напротив Бригидок и играл на скрипке. Меня никто не трогал, потому что я предусмотрительно надел черные очки, а под ногами у меня лежали костыль и шляпа, люди бросали мне копейки, а я играл для Орика, Яськи и Лии в надежде, что они услышат и им будет не так страшно. А сегодня рано утром прибежала тетя Ривка и сообщила радостную новость: Лия спаслась, Ясю и Орику тоже удалось бежать. Господь услышал мои молитвы».
Мы покинули наше укрытие 29 июня, когда наступило второе июньское воскресенье войны. На улицах царило оживленное движение, милицейские будки опустели, машины стояли в пробке. Уже неделю тянулись непрерывные вереницы большевистской армии, ползли пушки и танки, лица воинов уставшие и мрачные, в глазах читались страх и нерешительность, уже никто не бросал на толпы львовян победные взгляды, не пытался заговорить, войско двигалось молча, молча следили за их отступлением люди, один лишь раз послышался возглас кого-то из толпы, и касался он пленных польских воинов, которые брели с лопатами и кирками на плечах, на головах у них были «рогатовки», которые отличали их от других, потому что одежда была запыленной и выцветшей, а ноги сбиты, без сапог и ботинок, обмотанные разноцветным тряпьем. «А их зачем вы за собой тащите? Отпустите!» – крикнул кто-то, но охранники, которые плелись рядом с пленными, не обратили на его крик никакого внимания, зато обращали внимание, когда кто-нибудь из львовян пытался передать пленным кусок хлеба или сигареты, тогда вмиг вспыхивал на солнце штык и раздавался окрик: «Нельзя! Атайди! Назад!». А за пленными поляками шли деревенские парни, которых вчера силой забрали в армию, одетые в гражданское, каждый нес на плечах какую-то котомку, глаза их нервно бегали, словно ища возможности бежать, но их тоже караулили.