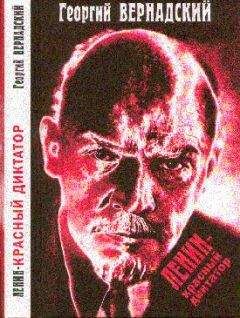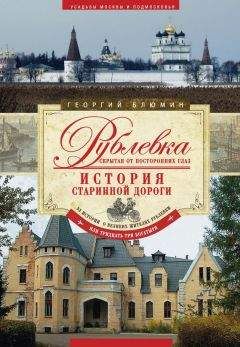Георгий Блок - Московляне
Боярское дорогое, удобное платье давило Кучковне плечи хуже тюремных цепей. Боярский опрятный, теплый дом сделался и неприютен и страшен: от скрипа широких дубовых половиц под ногой она вздрагивала, как застигнутая на воровстве.
Особенно тяжелы стали ей встречи с людьми своего, боярского круга. Стоило знатному гостю переступить их порог, как она уж торопилась испуганно затвориться у себя наверху. И если доносился до нее снизу звук густого боярского голоса, на ее усталом лице мигом появлялось несвойственное ей прежде выражение мучительной брезгливости.
Когда к Гаше посватался Дорожай и дочь пришла к матери за советом, Кучковна ответила еле слышно:
— Твоя воля.
Однако вести положенную по обычаю беседу с женихом отказалась. Вежливый Дорожай, верный блюститель боярских обрядов, услыхав об этом отказе, только руками развел да губы вытянул. Так он и не услышал тещиного голоса.
Без слез проводила Кучковна в путь новобрачных и внука. Гаше на всю жизнь запомнился материнский прощальный светлый взгляд.
В разлуке с матерью Гаша утешалась мыслью, что остался при Кучковне вновь принятый в дом, но давно ей известный и всем сердцем ей преданный слуга. Это был старик-киевлянин, по имени Кузьма, или, как чаще его называли, Кузьмище, много лет прослуживший при князе Андрее Юрьевиче, а по смерти князя ушедший из Боголюбова в Москву.
Вскоре после того, как до Москвы дошла весть о казни Петра Замятнича и Якима Кучковича, боярыня в сопровождении этого самого Кузьмы отправилась по первопутку в тот Ростовский монастырь, где была могила ее матери. Она не раз езжала туда и ранее.
Однако на этот раз она не воротилась оттуда в Москву. А куда девалась, неизвестно. Не знал того и Кузьма-киевлянин. Груня, не довольствуясь его слезными показаниями, сама побывала в Ростовском монастыре.
Там сказали, что ее мать была у них в первозимье и что при ней был старик-слуга. На второе утро после ее приезда слуга явился к игуменье и спросил, не знает ли мать-игуменья, где его боярыня. Игуменья предприняла по свежим следам целый розыск.
Послушница, приставленная к Кучковне для комнатной услуги, видела, как боярыня, отстояв полунощницу, вернулась в отведенный ей покой. А наутро послушница нашла этот покой пустым.
Монастырская привратница говорила, что ежели бы боярыня выходила из ограды, то не миновала бы ее глаз, а она, привратница, боярыни не видела. Правда, на рассвете вышло из ворот обители несколько странниц-богомолок, но в их числе боярыни, по словам привратницы, не было.
Кузьмище кинулся догонять странниц. Догнал, расспросил, но ничего от них не узнал. Все они уверяли в один голос, что, кроме тех, кто перед ним налицо, никто другой с ними из монастырских ворот не выходил.
Груне показали в монастыре старый, заведенный еще матерью Кучковны поминальный синодик, куда в этот свой приезд боярыня попросила вписать несколько новых имен: Андрея, Иулианию, Петра, Иоакима, Иоанна, Симона, Олимпиаду, Прокопия. Имена были начертаны по-книжному, и Груня не сразу догадалась, что Иулиания — это княгиня Ульяна, булгарка, а Олимпиада — племянница боярыни, дочь Ивана Кучковича, слабоумная Липанька, погибшая во время боголюбовского пожара.
Груня объехала и все другие женские монастыри, какие были в Залесье. Побывала и в некоторых заволжских, доезжала до Белого озера. Куда же, как не в монастырь, могла уйти ее мать?
Но нигде и никто Кучковны не видел, и никто ничего про нее не слыхал.
Так и пропал навсегда ее след.
ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ
Новый век
I
Прошло четверть столетия.
Начался новый век, тринадцатый, в жизни древней Руси самый страдный.
Но на северо-востоке, за гривами вятических лесов, которые к тому времени успели утратить свое отжившее племенное название, где копились семена будущей великорусской народности и где уже зачиналось ядро будущего русского государства, — там эти первые годы нового века протекали светло и торжественно.
Для Владимиро-Суздальской земли, которой правил уж двадцать пятый год князь Всеволод Юрьевич, это были лета расцвета.
Всеволод, сочетая в себе лучшие достоинства деда, отца и старшего брата, но не похожий ни на одного из них, собрал с их посева обильный урожай, не потеряв ни колоса. Обходительный с людьми, как Мономах, осторожный, как Юрий, независимый от боярской знати, как Андрей, он, как они, был упорен в намерениях и тверд в решениях.
Летопись называет его великим. Он и впрямь был крупнее всех современных ему русских князей.
Его уменье действовать, не обинуяся лица сильных своих бояр, привлекало сердца смердов. Правда, вокруг его собственных обширнейших вотчин сироты были порабощены и обижены не менее, чем около боярских, но в этом винили не князя, а княжих огнищан и тиунов, сам же Всеволод так искусно отходил при этом в сторону, что на него никогда не ложилась тень.
Как и Андрей, он был подлинным самовластцем, однако, прислушиваясь к голосу горожан и уступая им иногда в мелочах, он успел завоевать доверие этих преданнейших когда-то Андреевых сподвижников, которых Андрей напоследях отпугнул от себя своею крутостью.
Всеволод Юрьевич был счастлив в супружестве и вырастил сильную семью — большое гнездо. Под таким прозвищем он и вошел в историю: Всеволод Большое Гнездо.
И смерды и горожане ценили во Всеволоде его радение о пользе и безопасности их земли. Он продвинул ее рубежи на восток, борясь, по примеру отца и брата, за владение Волгой, ужимая булгар, укрощая мордву. Разбойных соседей, рязанских князей, он обратил в своих послушных подручников. Когда на юге, в Поросье, была рать без перерыва, у Всеволода был мир. Он, подобно Андрею, любил мир паче, нежели войну, а если порой не хотел мира, то это означало, что война в этом случае выгодна его земле и успех верен. Только тогда он и воевал.
Одно имя Всеволода, говорит летописец, повергало в трепет все страны. В этом нет преувеличения.
Не расходуясь на захват ненужного ему, разоренного Андреем Киева, Всеволод не допускал, однако, чтоб тамошние дела решались без него. Властный и требовательный голос Мономахова внука был слышен и в Чернигове, и в Галиче, и в Смоленске, и в Новгороде. "Отец и господин" — так величали его русские князья. Подобного величания не удостаивался никто из его предшественников. Половцы, разорявшие Поросье, убегали в глубину степей при одной вести о приближении Всеволода. Его советов слушался польский король. Когда германский император Фридрих Барбаросса узнал, что вступивший с ним в переговоры галицкий князь находится в близком родстве со Всеволодом, Барбаросса во внимание к этому родству поспешил изъявить свою любовь Всеволодову сестричичу, оказал ему почетнейший прием, обещал помощь и действительно помог в меру своих сил.