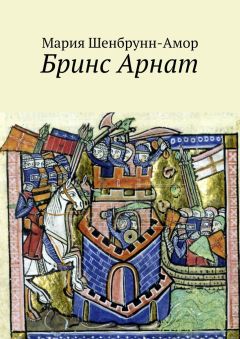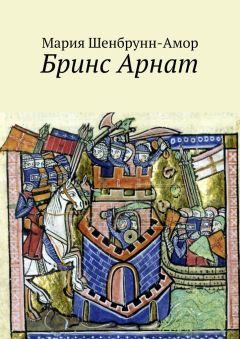Иария Шенбрунн-Амор - Железные франки
Посреди залы цирюльник отпиливал гноящуюся ногу привязанному к столу страстотерпцу, оглушенному вином и отваром опиумных маков. Несмотря на кляп, больной извивался, отчаянно дергался, хрипел и пучил глаза так, что они грозили выкатиться из глазниц. Констанция в ужасе замерла, не в силах ни уйти, ни продолжать смотреть. Цирюльник время от времени останавливался, переводил дух, утомленно смахивал пот и вновь принимался старательно пилить. За процедурой с любопытством наблюдал отрок в стихаре, одной босой ногой почесывая другую, зажав под мышкой монстранц со Святыми Дарами. Наконец несчастный потерял сознание.
Остальные больные в ампутациях не нуждались. Некоторые были просто истощены до крайности голодом и усталостью, многие терзались тяжкими поносами, их желудки не могли удерживать никакую пищу, иные были объяты лихорадкой. Констанция шла среди распростертых тел, отмахиваясь от мух, пытаясь обходить отвратительные лужи мокрот и рвоты, обращаясь со словами благодарности, утешения и ободрения к пребывавшим в сознании. Изабо и остальные дамы не выдержали и перешли в часовню, чтобы горячо молиться за страждущих в тишине и на чистом воздухе. Только дама Филомена без жалоб продолжала следовать за княгиней по этому преддверию ада. Констанцию мутило, тошнота волной поднималась в ее чреве, голова кружилась, ноги подгибались, но она все же добрела до дальней залы, где вповалку валялись умирающие. На каменной скамье метался в лихорадочном бреду накрытый дырявым верблюжьим одеялом истощенный мужчина, громко стонавший: «Годиэрна! Годиэрна!»
– Бедняга вспоминает дщерь или супругу, – толстый монах-бенедиктинец обильно окропил больного спасительной иорданской водой.
– Ваша светлость, это Жоффре Рюдель, князь Блаи, и Годиэрна не жена ему. Мужчины редко бредят собственной женой, – сказал стоявший у входа французский шевалье. – Рюдель полюбил Годиэрну, графиню Триполийскую, и избрал ее дамой сердца. Все путешествие он сочинял в честь ее песни и панегирики.
Среди хаоса умирающих и страждущих молодой и пригожий шевалье был невозмутим, как праведник среди обреченных.
– Откуда он ее знает? – Констанцию поразило, что необузданная и сварливая тетка, чьи семейные склоки который год развлекали Утремер, смогла внушить французскому пииту такие возвышенные чувства.
– Он никогда ее даже не видел, – усмехнулся француз, хотя что смешного в агонии невинного? И еще нагло уставился прямо на княгиню странными, необычайно светлыми глазами. – Достаточно, что слава о красоте, добродетели и благородстве этой дамы разнеслась с помощью труверов и паломников по Европе, и его сердце избрало ее.
Француз, похоже, издевался над графиней Триполийской, а может, и над самой Констанцией. Во всяком случае, так непочтительно с княгиней Антиохийской никто не разговаривал. Но вокруг было так много скорби и мук, что Констанция не стала одергивать человека, который все же взял крест ради франков:
– Я не хочу даже догадываться, что могли поведать Европе о прекрасной даме Годиэрне болтливые труверы.
– Жоффре – знаменитый трубадур, он сочиняет искусные баллады. Как истинный рыцарь, он поклялся служить знатной, далекой и несравненной графине Триполийской до самой смерти. Кажется, недолго осталось.
– Нашел, кому панегирики сочинять, – фыркнула дама Филомена, набрала проточной воды из трубы и двинулась вслед за монахами поить жаждущих.
Глаза умирающего поэта лихорадочно бегали под закрытыми веками провалившихся глазниц, бородатое, обтянутое желтой кожей лицо осунулось, в углу рта запеклась пена, костлявые руки с синими венами судорожно мяли край одеяла. Бедняга никогда не узнает, что в Заморье тетка знаменита не столько своей красотой и добродетелями, сколько вздорным нравом и чрезмерно вольным поведением.
– Достойным, скромным женщинам труднее прославиться, – наглый шевалье снова ухмыльнулся, как будто угадав мысли Констанции. – Молва о женщине манит мужчину сильнее любых добродетелей. К тому же, ваша светлость, если бы рыцари, покинувшие свой дом и двинувшиеся на спасение Святой земли, не воображали бы и эту землю, и населяющих ее рыцарей и дам необыкновенно прекрасными, ополчение Людовика оказалось бы вдвое меньше!
С какой возмутительной насмешкой над благочестивыми, несчастными, отважными крестоносцами ронял дерзкий шевалье свои небрежные замечания! Наверное, не следовало продолжать эту беседу, но Констанция не удержалась:
– К сожалению, вторая половина крестоносцев уверена, что мы – развращенные восточной роскошью, снисходительные к исламской ереси, алчные к наживе и ради выживания готовы договориться хоть с дьяволом… Напомните мне ваше имя, мессир?
– Рейнальд Шатильонский, к вашим услугам, мадам, – красивый шевалье произнес фамильное имя с такой гордостью, что она не решилась уточнять, из рода каких именно Шатильонов он происходил. – Вы, франки, в чем-то хуже, а в чем-то лучше наших представлений о вас, а значит, разочаруете тех, кто думал о вас хорошо, и уязвите тех, кто думал о вас плохо.
Странный этот крестоносец в истрепанных обносках, с качающейся в ухе дешевой серьгой, держался принцем и судил смелее короля. Даже лениво привалившийся к дверному косяку, он выглядел собранным и ловким, как затаившаяся в траве рысь.
– А чем мы поразим вас, мессир?
– Я из тех, что пошли бы и в ад. Я прибыл поражать, не поражаться.
Несчастный Рюдель забормотал в бреду:
– Ночью она дарит мне счастье снов о ней… Я прокрадусь в ее обитель, как вор…
Констанция поправила сползшее одеяло, взяла умирающего за руку, трепещущую подбитой птицей. Преданному бедняге, увы, недолго осталось служить женщине, даже не подозревающей, что она стала предметом обожания прославленного французского стихотворца, но назвать обителью огромный и неприступный замок графов Триполийских было позволительно только менестрелю, вообразившему, что Годиэрна – женщина, достойная смиренного поклонения.
– Как можно любить того, кого никогда не видел и совершенно не знаешь, вместо тех, кто близок тебе и дан Господом в спутники жизни?
– Разве мы когда-нибудь знаем тех, кого любим? Все чувства одинаково придуманные, а любить далеких гораздо легче и меньше хлопот, ваша светлость. Близкие всегда уступают придуманному образу.
– Если вы так думаете, вы ничего не знаете о любви, – важно объяснила Констанция неопытному молодому человеку. Снова этот француз так улыбнулся, что было непонятно, уж не над ней ли он смеется?
– Мадам, я воин, не пиит. Ненависть к врагам не оставила в моей душе места для любви к женщинам. Хотя, конечно, – он с галантной шутливостью склонил круглую, коротко стриженную голову, – никто не знает собственного будущего.