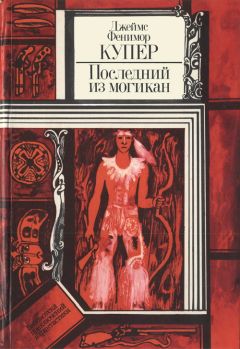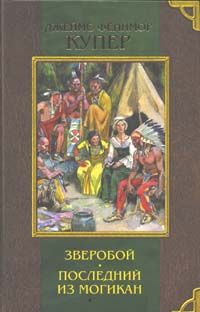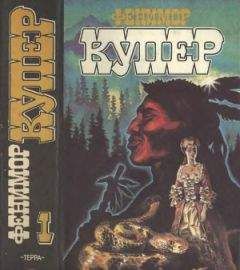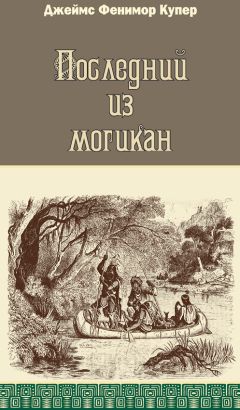Джеймс Купер - Том 3. Последний из могикан, или Повесть о 1757 годе
Эти пытливые недружелюбные взгляды, как бы предвещавшие более серьезные испытания, через которые ему предстояло пройти при встрече с туземцами не столь юного возраста, не сулили молодому человеку ничего хорошего, и он на секунду почувствовал сильное желание отступить. Однако он тут же понял, что теперь поздно не только отступать, но даже колебаться. На крик детей из ближайшей хижины высыпала дюжина воинов и мрачно сгрудилась, настороженно и угрюмо ожидая приближения тех, кто так неожиданно пожаловал к ним.
Давид, уже привыкший отчасти к подобным зрелищам, направился прямо к хижине с решительностью, поколебать которую смогло бы разве что очень серьезное препятствие. Хижина представляла собой центральную постройку селения, хотя, как и остальные, была так же грубо сложена из бревен и веток: в ней, в течение временного своего пребывания на границе английских владений, племя собиралось на совет и общие сходки. Пробираясь между смуглыми фигурами индейцев, столпившихся у порога, Дункану нелегко было принять равнодушный вид, столь необходимый ему сейчас. Но, сознавая, что жизнь его зависит от самообладания, он положился на благоразумие спутника и, следуя за ним по пятам, попытался на ходу собраться с мыслями. Кровь леденела у него в жилах,— он ведь находился в непосредственной близости от свирепых, беспощадных врагов, однако молодой человек так хорошо владел собой, что добрался до середины хижины, ничем не выдав своего волнения. Там, следуя мудрому примеру Гамута, он вытащил охапку душистых веток из большой груды, сваленной в углу, и молча уселся на нее.
Как только гость вошел в хижину, воины, наблюдавшие за ним с порога, расположились вокруг него, терпеливо выжидая, когда чужеземец сочтет уместным заговорить, не уронив этим своего достоинства. Большинство дикарей остались стоять, лениво прислонившись к столбам, на которые опиралась кровля, а несколько старейших и наиболее почитаемых вождей уселись, по индейскому обычаю, прямо на земле, чуть впереди прочих.
В хижине горел яркий факел, и его красноватый колеблющийся свет выхватывал из темноты фигуры то одного, то другого дикаря. Воспользовавшись этим, Дункан устремил жадный взор на лица хозяев и попытался прочесть по ним, какого приема следует ему ожидать. Однако проницательность его оказалась бессильной перед холодным бесстрастием окружающих. Сидевшие впереди старейшины едва удостоили его взглядом; глаза их были устремлены в землю, а это могло быть в равной мере истолковано и как признак почтения и как выражение недоверия. Дикари, стоявшие в тени, оказались не столь сдержанны. Дункан вскоре почувствовал на себе их беглые испытующие взгляды, дюйм за дюймом обшаривавшие и самого пришельца и его наряд; ни один его жест, ни одна линия раскраски и даже особенность покроя одежды не ускользнули от внимания и оценки наблюдателей.
Наконец один из дикарей, в волосах которого уже пробивалась седина, хотя его мускулистое тело и твердая поступь свидетельствовали о том, что он еще способен успешно справляться с многотрудными обязанностями мужчины, вышел на свет из темного угла, куда, вероятно, забрался с намерением украдкой понаблюдать за чужеземцем, и начал речь. Говорил он на языке вейан-дотов или гуронов, и слова его были непонятны Хейуорду, хотя, судя по жестам, которыми они сопровождались, смысл их был скорее дружелюбным, чем враждебным. Хейуорд покачал головой и жестом дал понять, что не может ответить.
— Разве никто из моих братьев не говорит по-французски или по-английски? — задал он вопрос на французском языке, оглядывая окружающих в надежде увидеть утвердительный кивок.
Несколько голов повернулось к нему, словно пытаясь уловить смысл сказанного, но ответа на вопрос не последовало.
— Мне было бы грустно думать,— медленно продолжал Дункан, выбирая самые простые французские слова,— что ни один человек из вашего мудрого и храброго племени не понимает языка, на котором Великий Отец говорит со своими детьми. Его сердце преисполнилось бы печалью, если бы он узнал, что краснокожие воины так мало чтут его!
Последовала долгая тягостная пауза, во время которой никто из индейцев ни словом, ни жестом не показал, какое впечатление произвела эта тирада. Помня, что молчаливость почитается у дикарей добродетелью, Дункан с радостью воспользовался этим обычаем краснокожих, для того чтобы собраться с мыслями. Наконец тот же воин, который первым обратился к нему, сухо ответил на наречии канадских французов:
— Разве, обращаясь к своему народу, наш Великий Отец говорит на языке гуронов?
— Он не делает различия между своими детьми, какого бы цвета ни была у них кожа — красная, черная или белая, хотя больше всего он любит храбрых гуронов,— уклончиво ответил Дункан.
— А что он скажет, когда гонцы назовут ему число скальпов, которые пять ночей тому назад украшали головы ингизов?— не унимался подозрительный вождь.
— Ингизы — его враги; поэтому он, без сомнения, похвалит вас и скажет: «Мои гуроны — доблестные воины!» — с невольным содроганием отозвался Дункан.
— Наш канадский Отец так не думает. Он не вознаградил гуронов и отвернулся от них. Его заботят не они, а мертвые ингизы. Что это может значить?
— У такого великого вождя -мыслей больше, чем слов. Он беспокоится, как бы враги не пошли по его следам.
— Пирога мертвого воина не поплывет по Хорикэну,— угрюмо возразил индеец.— Уши нашего Отца открыты для делаваров, с которыми мы не дружим, и те наполняют их ложью.
-— Этого не может быть. Как видишь, он приказал мне, человеку, умеющему исцелять недуги, пойти к его детям, Красным гуронам с Великих озер, и узнать, нет ли меж ними больных.
Едва Дункан объяснил роль, которую он взял на себя, снова наступило продолжительное, глубокое молчание. Все глаза разом устремились на него, словно пытаясь решить, правда или ложь таится в его словах, и глаза эти светились таким умом и проницательностью, что предмет их внимания затрепетал при мысли о том, чем может кончиться его затея. Однако опасения его рассеял все тот же дикарь.
— Разве ученые люди из Канады раскрашивают лицо? — холодно продолжал гурон.— Мы слышали, что они похваляются своей белой кожей.
— Когда индейский вождь приходит к своим белым отцам, он снимает одежду из бизоньей шкуры и надевает предложенную ему рубашку,— твердо отпарировал Дункан.— Мои братья дали мне краски, и я раскрасил себе лицо.
По хижине пронесся негромкий одобрительный гул, доказывавший, что индейцы благосклонно приняли этот комплимент своему племени. Старейший из вождей сделал одобрительный жест, который был поддержан большинством его сотоварищей, вытянувших вперед руки с коротким удовлетворенным возгласом. Дункан перевел дух, считая, что самое трудное позади; а так как он уже придумал простой и правдоподобный рассказ в подтверждение своей выдумки, будто он лекарь, его надежды на успех сильно возросли.