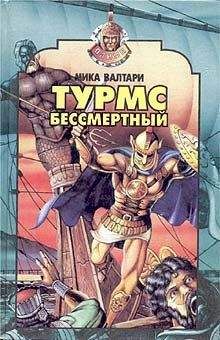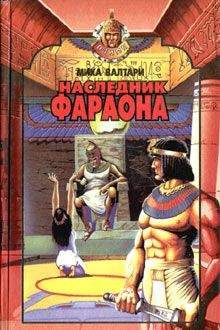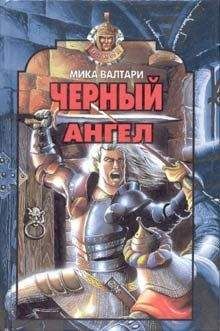Мика Валтари - Раб великого султана
Кислар-ага опять почесал свои голые пятки и произнес:
– О Аллах! Наконец-то я понял, в чем состоял твой тайный замысел. Значит, ты человек хитрый, а твоя честность – всего лишь маска. Но мне ничего не стоит принять твою жену и побеседовать с ней. Все, что ты мне сказал, подогрело мое любопытство.
Итак, мы попрощались, как добрые приятели, которые по достоинству оценили ум и проницательность друг друга. В знак своей дружбы и расположения управитель гарема разрешил поцеловать ему руку, но не преминул заставить меня поклясться Кораном, именем Пророка и моей реденькой бородкой, что я ни словом не обмолвлюсь о том, что со мной случилось в серале.
5
Вечером того же дня к нам домой явился евнух в сопровождении вооруженной стражи и передал мне в дар от султана шелковый мешочек с двумя сотнями золотых, что составляло сумму в двенадцать тысяч серебряных монет – то есть в тысячу раз больше, чем то ежедневное жалованье, которое я получал у Пири-реиса.
Я и мечтать не смел о таком богатстве и теперь понял, как опрометчиво поступил, посулив заранее лекарю Соломону половину своего вознаграждения, ибо тот, несомненно, довольствовался бы и суммой поменьше, умей я торговаться, как полагается.
Когда евнух, взобравшись в украшенное серебром и усеянное топазами седло своего мула, наконец отбыл в сераль, Джулия, восторгаясь свалившимся на нас с неба богатством, громко размечталась о покупке уютного домика на Босфоре, о лодке, нарядах и служанках, одним словом, о том, что соответствовало бы мнимой должности ее супруга при султанском дворе.
Хватаясь руками за голову, дергая себя за бороду и бегая из угла в угол, я вынужден был жестоко разочаровать Джулию и лишить ее всяких надежд, заявив, что нам необходимо иметь сбережения на черный день, но она, не на шутку разозлившись, стала кричать и бранить меня. Потом Джулия горько разрыдалась, упрекая меня в том, что я обладаю исключительным даром разрушать все, к чему прикоснусь, в том числе и самые прекрасные и сокровенные сны и мечты, в конечно же счете – и всю ее жизнь.
Слова Джулии задели меня до такой степени, что я сам принялся разглагольствовать о каком-то непонятном домике на берегу голубого Босфора и о собственном садике, где среди цветущих деревьев можно предаваться созерцанию звезд на темном небосводе и слушать рокот волн, бьющихся о камни берега. Но здравый смысл подсказывал мне, что не стоит уповать на неизменную милость и благосклонность султана – и что весьма затруднительно построить домик на Босфоре и разбить сад, получая двенадцать серебряных монет в день. Да, у меня не было сомнений на сей счет.
Наш разговор прервало громкое мяуканье, а выбежав во двор, мы увидели одну из голубых кошек Джулии, которая корчилась на траве в предсмертных судорогах. Побелев, как полотно, Джулия побежала в дальний угол двора, где обычно стояла миска с едой для моего песика Раэля. Прожорливая кошка польстилась на собачью пищу, и мне стоило лишь взглянуть на жену, чтобы понять, что в мое отсутствие она подсыпала яд в миску Раэля, желая таким образом наказать меня.
Поняв, что я постиг всю глубину ее коварства, Джулия еще больше побледнела, совсем упала духом и тихонько простонала:
– Прости меня, Микаэль! Я не хотела причинить тебе зла, но ярость ослепила меня. Всю ночь я не смыкала глаз, бродя по дому, и дурные предчувствия не покидали меня. Твоя несносная собака своими выходками буквально свела меня с ума, я не могла больше терпеть ее драк с моими кошками, на которых она кидалась, стоило мне только отвернуться. Но хуже той подлости, которую Раэль устроил мне сегодня, отравив мою любимую кошечку, ничего и придумать нельзя, и я никогда не прощу ни твою собаку, ни тебя.
Доведенная до белого каления, Джулия плакала, кричала и стонала, жалея свою кошку, и мне стоило огромного труда наконец успокоить жену и вымолить у нее прощение. Все это на некоторое время отвлекло ее от мыслей о домике на Босфоре, и не успели мы вернуться к обсуждению столь волнующей темы, как вдруг послышался звук размеренных шагов приближающегося к дому отряда солдат, кто-то рукоятью меча постучал в ворота, а когда я распахнул дверь настежь, на пороге возник начальник янычар в полном боевом облачении и белом войлочном колпаке. Он командовал десятью солдатами. Поприветствовав меня, молодой паша передал мне приказ аги янычар немедленно отправляться толмачом в штаб сераскера, находящийся в городе Филиппополисе[46] на реке Марице; мне предстоит переводить сообщения шпионов и соглядатаев, а также выполнять любые другие поручения сераскера.
Неожиданный приказ потряс меня до глубины души, и я невнятно пробормотал, что, видимо, произошла какая-то чудовищная ошибка. Но паша был неумолим и заявил, что получил строгое распоряжение еще до вечернего намаза увезти меня из города и отправить вслед за войсками, выступившими в поход. Мне надо, добавил он, поскорее приготовить необходимые запасы пищи и одежды и собраться в путь. Он же, паша, будет со своим отрядом сопровождать меня в Филиппополис, ибо головой отвечает за мою жизнь.
Все это произошло так быстро и неожиданно, что я опомнился, уже покачиваясь в неудобном паланкине на спине верблюда, шагавшего по дороге в Адрианополис[47]. Я возводил руки к небу, плакал, кричал и жаловался на свою горькую судьбу. Заметив мое отчаяние, янычары запели во все горло, восхваляя Аллаха и радуясь, что им предстоит взять Вену и победить тамошнего владыку. Их воодушевление, раскинувшееся надо мной чистое вечернее небо, уже сияющее яркими звездами после долгой череды дождливых дней, да и слова в конце приказа аги, которые сообщали о тридцати серебряных монетах жалованья, выплачиваемых мне ежедневно из султанской казны с момента подписания этого приказа, несколько утешили меня и подняли мне настроение. Я также постоянно твердил себе, что все вершится исключительно по воле Аллаха, и пусть даже меня некоторое время решили подержать подальше от гарема, султан непременно пожелает проверить, достоин ли я более высокой должности, чем та, что я занимал до сих пор.
Только на закате дня мы наконец добрались до мощных городских стен и через низкие сводчатые ворота покинули Стамбул. Виднеющиеся вдали холмы были красными и желтыми от множества тюльпанов, и мусульманские надгробья сияли в последних лучах заходящего солнца ослепительной белизной. Солнечный диск быстро исчезал за горизонтом, фиолетовое небо с каждой минутой становилось все темнее, а далекие хриплые голоса муэдзинов, призывающих правоверных к вечерней молитве, звучали какой-то странной музыкой, в которую вплетались размеренные шаги воинов и посапывание верблюда. И вдруг мне показалось, будто я избавился от тяжких, сковывающих каждое мое движение цепей, будто с меня сорвали гнетущие покровы, – и я глубоко и свободно вдохнул полной грудью свежий весенний воздух.