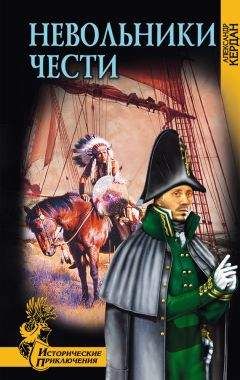Александр Кердан - Крест командора
Глава вторая
1Главный столоначальник Тайной канцелярии Николай Иванович Хрущов собрался выходить в отставку. До желудочных коликов надоело ему многолетнее сидение в присутственном месте, перекладывание бумаг с угла на угол, чтение премерзостных доносов и столь же неприятных объяснений. Зело опостылело ведение протоколов на допросах с пристрастием, где рвут сердце на части крики пытуемых, к коим так и не привык за годы службы. Уж больно разочаровывает в человеческом роде однообразное зрелище неутоленной людской гордыни, телесной слабости и душевной тщеты.
По летам ему уже в самый раз – сидеть с удочкой на берегу речки в собственном именьице, что в Ингерманладнской губернии. Оно досталось ему по наследству после суда над приверженцем Волынского, придворным архитектором Еропкиным. Ловил бы пескарей да грел на солнышке зябнущее тело… Но тяжки вериги земные, как любит повторять преосвященный епископ Амвросий Вологодский. Епископ – ровесник Хрущова, частый гость в Тайной канцелярии, без его духовного благословения в последние годы не вершится ни один суд над государевыми преступниками. А ещё любит Амвросий с устатку выпить с генерал-аншефом Ушаковым мозельского, а после с Хрущовым отпить «сатанинского зелья» – кофея, коий варить мастер. Неспешно, по-стариковски, ведут они долгие беседы, из которых Хрущов черпает для себя некоторые полезные сведения по службе, а епископ узнаёт подробности светской жизни. От архипастыря набрался Хрущов библейских истин, даже увлёкся чтением Екклесиаста – древнего мудреца с царственными корнями, изрекшего, что всё – суета сует!
И то правда. В последние месяцы, как на каторгу, являлся он в свой кабинет с потёртыми стенами, массивным шкапом, тяжёлым дубовым столом и узким окном-бойницей. Нехотя принимался разбирать утреннюю почту. Это был целый ритуал, в котором с давних пор всё оставалось неизменным, а теперь ещё и обрыдлым.
Сперва смотрел доносы от дворцовых и посольских служителей. Этих всегда было с избытком. Нынче соглядатаи доносили, что повадился к великой княжне Елизавете Петровне с визитами французский посланник Шетарди, а герцогиня Бенигна Бирон устроила выволочку придворному художнику Вишнякову, посмевшему написать её портрет так натуралистично, что стали видны оспины на высочайшем лике. Особый тайный агент при дворе фаворита сообщал, что их светлость герцог Курляндский после рождения 12 августа сего 1740 года наследника престола Иоанна Антоновича сделался так задумчив, что никто к нему и подойти не смел. Как не вспомнишь тут Екклесиаста, что советовал: «Даже в мыслях не злословь царя и в спальной комнате своей не злословь богатого, потому что и птица небесная может перенести слово твое, и крылатая – пересказать речь твою». «Будто вчера писано», – удивился Хрущов. Отложил отдельно донос про Бирона и взялся за полицейские сводки.
О ватагах беглых крестьян сообщали из Казанской и Воронежской губерний. В Кинешемском уезде в вотчине отставного поручика Бестужева-Рюмина крестьяне «миром» повязали местных батюшку и дьячка, которые после обедни разругались и стали перед прихожанами обвинять друг друга в разбое, чем себя и выдали. И уж совсем из ряда вон выходящее сообщение – каптенармус Лабоденский со своими людьми в июле сего года напал на усадьбу своего соседа, отставного прапорщика Ергольского. Как пишет доноситель, «умышленно скопом приступали ко двору его в селе Которце с огненным ружьём, с дубьём и с кольём, и сам он, Лабоденский, по нём, и по жене, и по дочери его из пистолета стрелял многократно, а крестьянин его Ермолай Васильев из фузеи палил. От такого стреляния дочь его, Ергольского, девица Мария, со страху едва жива осталась…»
Хрущов покривился, дивясь эпистолярным талантам полицейских чинов: им бы трактаты об амурах писать, а не служебные реляции, и перешел к стопке бумаг с пометкой: «Академия наук». Здесь более всего было сообщений от президента Иоганна Шумахера. Академик этот был немец, но не из «фонов»[78], хотя в России всякий инородец нынче себя «фоном» корчит. Он давно вызывал у Хрущова подозрения частыми встречами с прусским и саксонским посланниками, чрезмерной старательностью в обличении недостатков сотрудников академии. Слишком уж это напоминало поговорку: злые люди доброго человека в клети поймали! Были у Хрущова сведения, что не без содействия Шумахера пропадают из академической библиотеки секретные карты, старинные фолианты, ученые трактаты. Несколько раз предлагал Хрущов Ушакову привести лукавого академика в канцелярию под конвоем и здесь испытанными приемами узнать всю правду.
На эти призывы Ушаков отвечал уклончиво:
– Что ж, ай, детина, может, и впрямь сей Шумахер – сущий негодяй, но арестовывать его мы не станем.
– Отчего же, ваше высокопревосходительство?
– Больно хорошо карты рассчитывает! Нынче доброго картографа во всей Европе не сыщешь…
– Какой же он картограф, ваше высокопревосходительство, ежели по академической ведомости математиком числится? – удивлялся Хрущов.
Ушаков, обычно терпеливо выслушивающий его, тут рассердился:
– Много на себя берешь, ай, детина! Приказано сего Шумахера пока не трогать, пусть даже и шпионит он в пользу иностранного потентата!
Хрущов только руками разводил и продолжал еженедельно читать доносы Шумахера на членов академии. Впрочем, и сведения о самом Шумахере складывал в отдельную папку: и то – утешение, ежели ничего иного предпринять не волен.
Нынче Шумахер переслал донос адъюнкта Стеллера на капитан-командора Беринга. Стеллер, отправленный в экспедицию два года назад, успел перессориться со всеми офицерами, но более всего негодовал на самого начальника. «Во всём принят не так, как по моему характеру принять надлежало, но яко простой солдат и за подлого от него Беринга, и от прочих трактован был, – писал он, – и ни к какому совету я им, Берингом, призван не был…»
Далее Шумахер сообщал, что имеет сведения об астрономе Людвиге Делакроере, дескать, тот устроил в экспедиции запрещённую торговлю табаком, а на вырученные деньги беспробудно пьянствует. К доносу прилагалась копия письма к астроному, где Шумахер, выгораживая себя, писал: «Мне досадно входить в такое неприятное дело, которое вы себе навязали. Если бы вы позаботились с большим усердием о ваших академических занятиях, то, может быть, теперь не имели бы неудовольствия быть в раздоре с людьми, которые могут вам повредить. Берегитесь, чтобы Академия не начала против вас судебного преследования, потому что вы пренебрегаете ею. Позволительно ли это не писать в Академию в продолжение шести лет? Где ваши наблюдения? Поверьте, что сумею заставить вас дать отчёт в ваших работах…»