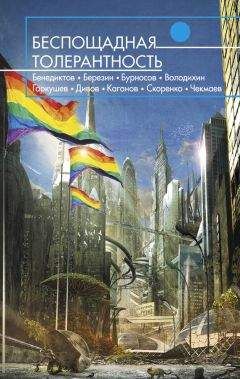Олег Слободчиков - По прозвищу Пенда
День был хмурый, ветреный и холодный. Порывы ветра налетали с восточной стороны, срывали воду с весел и шестов, брызгали в лица гребцов. Черные тяжелые быки неслись по небу, то и дело начинал накапывать дождь.
Старые промышленные, крестясь, говорили, что Бог дает знаки для начала дела хорошие. Когда остался виден один только крест на Николе Чудотворце, промышленные скинули шапки и запели, крестясь: «Отче Никола, моли Бога о нас!»
— «Радуйся, преславный в бедах заступник; радуйся, превеликий в напастях защитник», — громким голосом пропел Третьяк.
— «К чудному заступлению твоему притекаем, — подхватили в стругах. — Радуйся, плавающих посреди пучины добрый кормчий… Радуйся, преславный в бедах заступник, радуйся, превеликий в напастях защитник…»
Распевая так, ватажные повели свои струги и к полудню добрались до многоводной реки, называемой тунгусами Иоандэзи, которую за крутой, небабий, нрав иные сибирцы величали Енисеем. Среди других шла лодка троицкого монаха, он возвращался в свое зимовье. Примета была не из лучших, зато честь велика.
Многоводная река подхватила выплывшие из устья Турухана суда, закачала их на пологой волне. Но промышленные стали грести к берегу по правому борту своих лодок. Здесь, выше устья, они потянули струги бечевой и шестами против течения.
Доброхоты из особо грешных впряглись в шлею монашеской лодки. Самому же черному попу ватажные не позволили даже отталкиваться шестом.
Другой берег с черной тайгой, жмущейся к воде, был чуть виден в тумане. На середине реки гуляла высокая волна. Надо было подняться так, чтобы при переправе течение снесло струги к устью Тунгуски-реки. Бог миловал. Монашескими молитвами к концу долгого дня все они подошли к дальнему берегу.
Монастырское зимовье виднелось с реки. Четырехугольная часовня была со всех сторон окружена приземистыми избами с глухими стенами. Тесовые ворота смотрели на воду. Вокруг зимовья бугрились несколько ветхих землянок и шалашей. Зато поля и огороды раздольно тянулись по склону берега. На них росли капуста и репа, сохла в скирдах рожь, напоминая устюжанам о родине.
Завздыхали, закрестились люди в стругах. К вечеру небо разъяснилось, на лопастях весело засверкали солнечные лучи и стало видно, как вдоль поля, взявшись за руки, неторопливо возвращаются в зимовье баба с мужиком. Он нес пару вил на плече, придерживая их свободной рукой. Не оборачиваясь к реке, не замечая приставших к берегу, эти двое не могли знать, сколько душ обливалось слезами, сколько глаз любовалось их счастьем. Так они и скрылись за крепкими воротами.
Безродный горожанин, Третьяк глядел на берег с изумленным лицом. Щеки его пламенели, он был в потрясении, будто видел знаменье Божье.
— Кто это? — просипел, скрывая навернувшиеся слезы от сидевшего рядом монаха.
— Наши, монастырские пашенные из промышленных! — ответил тот, бросив радостный взгляд вслед скрывшимся. — Устали маяться в миру, прошлый год пришли, венчались. Живут. Баба уж брюхата, слава Богу.
* * *Гороховское зимовье стояло на холме: две избы с нагороднями, баня и лабаз обнесены сырым, не ошкуренным частоколом. Ни монахи, ни монастырские работные ничего плохого о соседях не говорили, но от разговора о них уклонялись, и только тамошний иеродьякон в латаной-перелатаной рясе, провожая ватагу, обронил:
— Мы — вечные! Они — перекати-поле. Трудно нам соседиться.
Вокруг зимовья лес был вырублен. Мох, который в здешнем лесу растет вместо травы, у реки был взрыт и вытоптан. Над саженной высоты крытыми тесовыми воротами возвышался черный крест в полтора аршина. На створках ворот также было по кресту.
Бурлаки подтянули к берегу все пять стругов, ввели их в удобную заводь, углубленную и укрепленную венцовой крепью. Ватажные стали креститься и кланяться на кресты зимовья, всем своим видом показывая приязнь к гороховским промышленным. Наметанный глаз мимоходом отмечал, что строилось зимовье в расчете на год-другой, а стоит лет пять или больше. Частокол кое-где покосился, вокруг него кучи отслоившейся коры, которая уже затягивалась мхом.
Над одной из изб курился дымок. Он стелился по берегу, призывая хмарь и дождь, дразня и прельщая путников отдыхом. На нагороднях никто не показывался, ворота оставались закрытыми, будто прибывших не замечали.
Ватажные, тянувшие бечевой струги вдоль берега, были мокры. Одни раздраженно переминались с ноги на ногу, не желая присаживаться в липких и холодных штанах, другие отжимали одежду, выливали воду из сапог и бахил.
Передовщик встал на корме струга, поправил колпак и по-казацки пронзительно свистнул. В другой раз по его взмаху свистнуло полватаги, да так громко, что в далеком лесу картаво заголосили вороны.
Ворота медленно и неохотно приотворились. В узкий проем протиснулись двое промышленных в замшевых рубахах с коротким подолом и в кожаных штанах, спущенных поверх чуней. У одного из-за кушака торчал черенок топора, у другого за опояску был заткнут семивершковый нож. Оба неспешно подошли к пристани, хмуро обменялись с гостями поклонами.
Вахромейка сидел на корме струга спиной к зимовейщикам, не поднимая конской сетки с лица, и неторопливо стягивал с ног мокрые бахилы.
— Кто нерадиво встречает братьев-христиан, тот государя с воеводой не почитает! — с оскалом в бороде укорил подошедших Пантелей. Глаза же его поблескивали холодными льдинками. — Велел нам воевода с вами дружить. А как пожалуемся? — сказал то ли с угрозой, то ли со смехом.
— У нас один государь — лес дремуч да ведмень — воевода! — хмуро, с шепелявинкой проворчал сутуловатый промышленный с густой бородой и спутанными волосами, рассыпавшимися по плечам. На нем была простая суконная шапка. Длинные жилистые руки несуразно перебирали складки кожаной рубахи.
Другой, моложавый, стриженный в кружок, был в шапке, искусно сшитой из рысьих брюшек. Он водил глазами, хмурил брови, морщил переносицу, будто хотел отпугнуть ватажных взглядом.
— Отчего не встречаете? — раздраженно спросил казак, положив левую руку на рукоять сабли.
— А некому! — хмуро отвечал шепелявый. — Одни за припасом ушли к Николе, другие лося промышляют да рыбу ловят. Мы, немощные, зимовье караулим по наказу, к нехристям не выходим, чужих не впускаем.
В сказанном был намек, чтобы гости на отдых не рассчитывали. Припекало полуденное солнце, лютовала мошка, останавливаться на полудневку никто не собирался, соединяться с гороховской ватагой не думали. И все же, мокрые и злые, промышленные рассерженно загалдели: на Спас добрые люди гостей так не встречают. Передовщик покраснел от досады, но лишь снисходительно рассмеялся: дюжина гороховских промышленных против трех десятков удальцов только и могла что огрызаться.