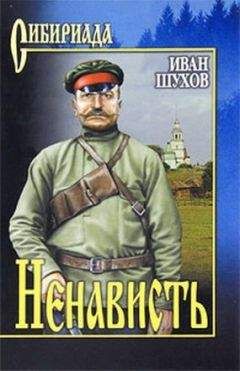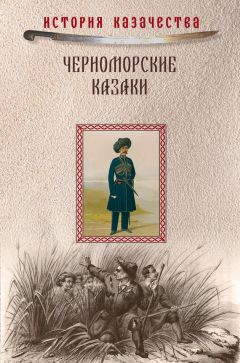Горькая линия - Шухов Иван
Тем временем на минуту отлучившийся по собственной нужде Лука вдруг точно сквозь землю провалился и, бесследно сгинув с глаз Егора Павловича, пропал на все трое суток.
Разглядев на досуге повнимательнее свой костюм, Лука пришел к выводу, что его перелицованная тройка не соответствует требованиям момента и тем «изысканным» светским модам, которые он видел на иллюстрациях журнала «Нива». Уединившись в портняжной мастерской Рафаила Файнберга из Риги — так, судя по вывеске, титуловал портного местный живописец,— Лука снова занялся своим туалетом.
Портной Файнберг из Риги, поломавшись, выжал из Луки довольно изрядную доплату, заново перекроил тройку соответственно строгим требованиям заказчика и, на сей раз премного угодив ему своим искусством, раздобыл к тому же для него перекупленную у приказчика галантерейного магазина фисташковую манишку и пару галстуков. Галстуки эти, правда, были слегка потерты, однако былой прелести еще не утратили и пришлись письмоводителю вполне по вкусу, к лицу. Один из галстуков бордового цвета имел форму так называемой «селедки», другой, расцветкой в ток первому,— вишневой «бабочки».
После многократных примерок костюм наконец был готов. Обильно смочив репейным маслом свои жесткие, торчавшие на макушке волосы, не в меру нафиксатуарив круто завинченные кверху рогульками гусарские усы, Лука облачился в дважды перешитую парадную тройку. Затем, нацепив при помощи портного на фисташковую манишку под стоячий с загибами на углах крахмальный воротничок оба галстука сразу, письмоводитель, ревниво присмотревшись к зеркальному отражению, нашел себя достаточно живописным.
В самом деле, и фисташковая манишка, и ловко пришпиленные под стоячим воротничком галстуки, наискось пронзенные тяжелой брошью с бирюзовым глазком на конце,— все это на фоне черного, несколько схожего по форме с фраком письмоводительского костюма придавало лицу Луки независимое, слегка надменное и даже, пожалуй, благородное выражение…
Словом, наружностью своей Лука остался вполне доволен. И на исходе третьего дня он, опасаясь, как бы снова не опоздать к поезду, и не успев даже снять с себя надетого для примерки парадного костюма, стремительно, со всех ног, бросился на станцию.
На платформе Лука появился уже после второго звонка. У Егора Павловича при этом втором глухом ударе колокола оборвалось сердце, и он, отупев от отчаяния и злобы, в нерешительности стоял на перроне, тщетно отыскивая Луку в толпе глазами. А Лука, в свою очередь, как угорелый носился в поисках спутника по перрону. И только после третьего удара станционного колокола и пронзительной трели обер-кондукторского свистка спутники наконец увидели друг друга и молча, как по команде, бросились к тронувшемуся поезду.
Садиться пришлось в первый попавшийся вагон уже на ходу. Эту посадку оба незадачливых пассажира запомнили на всю жизнь. При акробатическом прыжке на подножку Егор Павлович едва не вывихнул левую руку и, уронив войсковой медный котелок, алюминиевую кружку и полуведерный, незаменимый в дороге эмалированный чайник, просто чудом удержал облицованный цинковой жестью полковой сундучок, на дне которого хранилась бережно завернутая в холщовое полотенце петиция.
Попав в битком набитый людьми вагон, Лука раздумал переодеваться в дороге, решив доехать в таком виде хотя бы до станции Сызрань-пассажирская. Дело в том, что в Сызрани он рассчитывал щегольнуть перед одной близкой сердцу его особой, хорошо знакомой ему еще по службе в городе Верном, бывшей горничной полкового врача Лизонькой Кувыкиной. Много с тех пор воды утекло, когда, состоя в писарях при штабе полка, Лука угощал Лизоньку пригоршнями свежего урюка, дарил ей на память духи «Нарцисс» и певал вполголоса под аккомпанемент штабной гитары романс про черную шаль… Старая это была песня. Но и по сию пору он вел с бывшей горничной переписку по образцам имевшегося в его распоряжении любовного письмовника, а нередко посылал ей письма и собственного сочинения, преимущественно в стихах, к которым он с малых лет имел пристрастие. Судя по последнему письму Лизоньки, она состояла теперь на какой-то легкой вакансии при станционном буфете города Сызрани и все еще вспоминала о тайных верненских свиданиях, о свежем урюке, духах «Нарцисс», штабной гитаре и о нем, Луке. Так что на встречу с ней письмоводитель вполне надеялся и потому всячески норовил сохранить до приезда на Сызрань-пассажирскую столь обольстительный внешний вид.
Лука был уверен, что все от костюма его будут без ума. Однако, к великому его изумлению, Егор Павлович не только не выказал сколько-нибудь заметного одобрения по поводу ловко сидевшей на письмоводительской фигуре шикарной тройки, а, наоборот, явно недружелюбно косился на него. Лука и не подозревал, что всем своим необычайно модным, непривычным для стариковского ока нарядом, а особенно изысканной вежливостью и перенятыми по старой памяти у штабных офицеров благородными манерами доводил он своего спутника до прямого озлобления, до бешенства.
В самом деле, искоса поглядывая с верхней полки на вертевшегося у окна письмоводителя, Егор Павлович просто диву давался, изумляясь его франтовству и такой разительной перемене во всех повадках — в походке, в говоре, в облике, в стати, откуда только все в нем и взялось! Так, пробираясь на остановках к выходу, Лука, проворно работая локтями среди сгрудившейся в проходе толпы мужиков и баб, вежливо улыбаясь, говорил:
— Извиняйте, конечно. Простите, то есть пардон… Но больше всего Лука обозлил Егора Павловича тем, что, как только предстал перед ним в перелицованной тройке, при манишке, броши и двух галстуках, то даже и тогда, в момент незабываемой для обоих первой посадки на поезд, в суматохе, спешке и панике, обуявшей перегруженного разными вещами Егора Павловича,— даже и тогда начал вдруг Лука разговаривать с ним почему-то на «вы».
— Эй вы, Егор Павлович! Имайтесь, имайтесь скорей вот таким кандибобером за данную загогулину!— кричал он, уже прицепившись за поручни вагонной площадки, испуганно семенившему за поездом старику.
Все это возмущало степенного станичника.
И вот однажды ночью, когда извертевшийся за день у окошка Лука забрался на верхнюю полку и улегся на покой, Егор Павлович, не выдержав, раздраженно сказал ему:
— Што-то ты, Лука, погляжу я на тебя, уж шибко нотный какой-то стал? Просто не подступись теперь к тебе чисто… Восподина, што ли, из себя какова коробишь?
— Хе. А вам, Егор Павлович, с меня удивительно? — спросил, помолчав, Лука с усмешкой.
— Ишо бы не удивляться! Очень даже удивительно…
— Напрасно. Вы, Егор Павлович, возможная вещь, несколько забываете, куда мы с вами едем?
— Я пока ишо крепко об этом помню. А за тебя вот, слышь, говоря по совести, што-то не шибко ручаюсь…
— Ах, какой пассажэ!— насмешливо воскликнул Лука.
— Ну, ты мне дурочку тут не при. Разговаривай со мной по-русски…— сердито предупредил его Егор Павлович.
— О нет, уважаемый Егор Павлович,— с пафосом произнес Лука.— Иногда, знаете ли, обстоятельства момента вынуждают прибегать в некотором смысле и к французскому диалекту. А особенно, конечно, в высшем обществе…
— Ну, мы ишо с тобой пока не высшее общество. Стало быть, и языком-то трепать свысока неча…
— Однако, смею заметить вам, Егор Павлович, не мешало бы перед предстоящей высокой аудиенцией сие запомнить, что вообще в придворных кругах принято большей степенью выражаться на французском наречии,— осуждающе строго заметил ему Лука.
— Мало ли што там ни принято. Я тебе не министр иностранных сношений — на всех чисто языках речи говорить. Я человек степной, открытый. Никаких твоих иностранных наречий, кроме кыргызского, не признаю. А на родном своем русском языке я тебе как угодно выражусь…— с мрачной решимостью заявил Егор Павлович.
— Охотно верую вам, Егор Павлович. Не спорю. Дискуссий на сей счет с вами не произвожу. Но учтите особенность предвходящего момента. Ведь нам предстоит с самим государем императором лично говорить!..